В начале сентября 1943 года в Кремле состоялась встреча Иосифа Сталина с тремя иерархами Русской Православной Церкви: митрополитами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем). Эту встречу в кругах «православных сталинистов» принято считать, чуть ли не как «освобождение» Церкви от большевистского гнёта, а самого Сталина называть «Савлом, который стал Павлом». Однако так ли это?
К началу Великой Отечественной войны сталинское руководство практически расправилось с Русской Православной Церковью: из 57 тыс храмов оставалось лишь несколько тысяч, из 57 семинарий не осталось ни одной, из более чем 1000 монастырей — ни одного. «Союз воинствующих безбожников», крупнейшая «некоммерческая организация» тех лет, планировал уже в 1943 году закрыть последний православный храм. На своих постах оставалось только четыре архиерея: весь остальной епископат был либо расстрелян, либо находился в тюрьмах и лагерях.
Начав 22 июня 1941 года поход против СССР, Гитлер не мог не использовать советское богоборчество в своих агитационных целях. Нет, к православию, как и христианству, вообще, фюрер никаких симпатий не испытывал. В своих директивах он прямо указывал, что церковные организации необходимо использовать для управления покоренными народами, а в каждой деревне должно быть по секте и свое представление о Боге.
Начальник РСХА обергруппенфюрер СС Гейдрих говорил: «О поощрении Православной Церкви на оккупированных территориях не может быть и речи».
Однако, несмотря на эти директивы и указания нацистских вождей, германские военные власти не только не мешали открытию православных храмов, но часто помогали возобновлению церковной жизни на оккупированных территориях. За два года на этих территориях немцы открыли 10 тысяч храмов, 60 монастырей. Такое широкое открытие храмов давало возможность нацистам утверждать, что они несут освобождение народам бывшего СССР от сталинской тирании.
Действительно открытие храмов вызывало большой положительный отклик среди верующих людей на оккупированных территориях. Все это работало на руку вражеской пропаганде.
В этих условиях Сталин пошёл на формальное примирение с Церковью. Этот вынужденный шаг означал, что Церковь в чудовищном противостоянии с безбожным режимом выстояла и победила. У Сталина хватило ума не закрывать — во всяком случае, сразу после освобождения — храмы, открытые при немцах. Однако политика открытия новых церквей и тем более монастырей была фактически сразу же сведена к минимуму. Открывались только те храмы, которые нужны были Сталину для политических и пропагандистских целей. Но уже в 1947 году начались закрытие храмов в Белоруссии.
25 августа 1948 года под давлением сталинского руководства Священный Синод был вынужден запретить крестные ходы из села в село, печатания в епархиях акафистов. Вплоть до смерти Сталина ни один новый православный храм официально разрешен не был.
В конце 1940-х — начале 1950-х годов храмы массово начали переоборудовать под клубы. На 1 января 1952 года в стране насчитывалось 13 786 храмов, из которых 120 не действовали, так как использовались для хранения зерна. Только в Курской области в 1951 году при уборке урожая около 40 действующих храмов были засыпаны зерном. Количество священников и диаконов уменьшилось до 12 254, осталось 62 монастыря. В 1951 году, напрмер, было закрыто восемь обителей. Все послевоенное время шли аресты православных священников. Согласно сводному отчету ГУЛАГа на 1 октября 1949 года количество священников по всем лагерям составляло 3523 человека.
Сталин советовал партийному идеологу Михаилу Суслову «не забывать об атеистической пропаганде среди народа». С этим заветом вождь и умер 5 марта 1953 года.











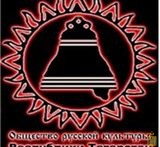



Нет Комментариев