В течение тысячелетий существование человека происходило в традиционной среде. В условиях сельского хозяйства и скотоводства основой человеческого хозяйства была семья, существующая в связи с институтами армии, дворянства и церкви.
С переходом к преимущественному участию населения в промышленном производстве товаров и услуг изменения происходят в семье — основой хозяйства перестает быть совместный сельскохозяйственный труд родственников, а личный доход мужчины и женщины становится независимым и сопоставимым. Мировоззрение граждан перестает формироваться под преимущественным влиянием церковного прихода, роль «просветителя» берут на себя СМИ и образовательные учреждения. Традиции и моральные авторитеты начинают подвергаться развенчиванию.
Человек оказывается в состоянии максимальной свободы. Условия жизни больше не ограничивают и он оказывается лишен оков, сдерживающих личный эгоизм в рамках традиционных институтов: семьи и хозяйства. Государство становится последней «крепостью» способной сдерживать индивида в рамках норм, ориентированных на поддержание здоровья общества.
Возникновение власти один из наиболее интересных вопросов для обществоведов. Можно с иронией назвать его основным вопросом социальной философии: что принципиально для формирования государства — самоорганизация или принуждение. Ответ на него оказывается краеугольным камнем в основании ценностной картины мира.
Государство появляется в обществе, когда люди научаются возделывать землю и пасти скот, что приводит к разделению труда — часть населения оказывается занята в производстве, другая — становится профессиональными «защитниками» или «разбойниками». В этот период происходит выделение частной собственности и начинает складываться общественное неравенство.
История приводит множество примеров, как государство формируется в результате захвата власти. Захватчики в лице шайки «разбойников» или «защитников» соседей захватывают власть над населенными землями, вводят дань и начинают регулировать жизнь подданных. Со временем складывается наследственная власть правителя, опирающегося на «дворянство», а кое-где с развитием торговли появляются олигархии и республиканские формы правления.
В качестве современных примеров показательными оказываются ситуации катастроф — природных катаклизмов, государственных переворотов, военных действий — когда люди на короткий период времени оказываются свободными от законной власти. Эти эпизоды характеризуются мародерством, насилием и максимально близки состоянию «войны всех против всех».
Их пример очень показателен тем, что подобные состояния быстро сменяются либо восстановлением государственной законности, либо по примеру «начала истории» формированием новых центров общественного управления — власти криминальных группировок, полевых командиров, — которые присваивают себе функции господства.
Ситуация «общественного договора», которую рисуют некоторые европейские философы, когда свободные индивиды для прекращения «войны всех против всех» собираются и заключают договор о передачи части своих прав «суверену», с тем чтобы он обеспечил их основополагающие права, — далекая от реальности картина.
Формирование государства происходит в результате «захвата», а не «объединения» по причине того, что сама способность человека к взаимодействию с окружающими ограничена. Такова природа индивида, что личные интересы он преследует с большим усердием, чем взаимодействует с другими.
Анализу подобных ситуаций посвящено большое количество работ в общественных дисциплинах. Так, известным примером является т.н. «дилемма узников», которая наглядно показывает, что двое не в состоянии достичь обоюдной выгоды из-за недоверия друг другу.
Знакомый каждому пример — ситуация на автомобильных дорогах, когда из-за машин, едущих по обочине, образуется пробка в месте сужения трассы. Если бы автомобилисты перестали съезжать на обочину, пробки бы не было, но поскольку каждый рассчитывает лишь на себя и не может быть уверен в солидарном поведении другого, скорость двиения снижается для всех водителей.
Зачастую механизмы зарождения общественных институтов рассматриваются на примере профсоюзного движения, когда для улучшения положения всех рабочих профессиональные объединения ограничили свободу отдельных трудящихся. Они добились от работодателей гарантии не брать на работу тех, кто не состоит в профсоюзе, чтобы обеспечить принятие всеми рабочими солидарных правил в защите коллективных интересов.
Усилия рабочих могли не иметь результата, если сохранялись «штрейкбрехеры», которые не принимали общих правил своей группы — выходили на работу в момент забастовок или соглашались получать зарплату ниже требуемого профсоюзами уровня.
Продолжение следует.











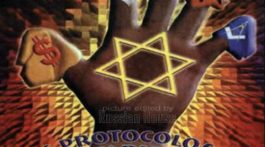



Нет Комментариев