История успеха фронтмена группы «Приват» Игоря Коломойского показывает, как был создан этот уникальный во всех смыслах слова банк, и к чему это привело
Как закалялась сталь
Если бы об Игоре Коломойском сняли художественное биографическое кино, каким видел бы себя в нем сам днепропетровский олигарх, который, в отличие от его партнера Геннадия Боголюбова, всегда уделял большое значение публичной стороне своей многогранной деятельности?
Возможно, он хотел, чтобы зрители увидели его в образе могущественного теневого дельца, который дергает за тайные нити, управляя болванчиками украинской политики. Или в амплуа бесстрашного украинского рыцаря, который спасает страну от врагов, вооружая националистов и зарабатывая на поставках бензина для ВСУ. Однако, проблема в том, что фильм про историю «ПриватБанка» был бы снят не в жанре героической драмы, а в классической манере «криминальной саги», которая хорошо известна всем по картинам Фрэнсиса Форда Копполы, Серджо Леоне и Мартина Скорцезе. Так что Игорю Валерьевичу повезло, что на Украине, судя по всему, еще несколько десятилетий не будут снимать сколь-нибудь приличное кино.
Конечно, юность будущего героя украинской рыночной эпохи проходила не на грязных задворках Ист-Сайда. Способный шахматист, выходец из хорошей семьи советских инженеров хорошо учился в хорошей днепропетровской школе, а затем поступил в Днепропетровский металлургический институт, чтобы пойти по стопам родителей. Но начинались восьмидесятые, и юный Игорь довольно скоро занялся своим первым бизнесом, о котором поведал впоследствии его одногруппник Кирилл Данилов.
«Была такая организация — «Облфото». Ее фотографы вывозили студентов в сельские районы, чтобы те ходили по домам и собирали у крестьян маленькие карточки для увеличения, — рассказывает Данилов. — Большие расписанные акриловыми красками фотопортреты назывались «кобылками». Один портрет стоил от трех до пяти рублей. Рубль доставался студенту. В одном селе можно было заработать рублей 200 — отличная добавка к 40 рублевой стипендии», — рассказывал впоследствии старый приятель олигарха. Можно сказать, что с этой творческой спекуляции началось создание будущей бизнес-империи, один из активов которой формально национализирует сейчас украинское государство.
В дальнейшем бизнес-карьера Коломойского и его друзей развивалась по нарастающей — причем, он опережал в этом практически всех ближайших конкурентов. В 1989 году, когда большинство юных кооператоров еще ограничивались организацией видеосалонов, Игорь Коломойский приступил к совершенно незаконной продаже оргтехники, которая завозилась в Днепропетровск из Москвы. Его бывший партнер Вячеслав Фридман вспоминал, что оттуда везли целые сумки с компьютерами, факсами, телефонами. Эти операции проделывались под прикрытием кооператива «Фианит», зарегистрированного в качестве филиала советско-американско-финско-болгарского предприятия «Новинтех», формально зарегистрированного там же, в Москве. А затем была создана фирма «Сентоза», которая объединила под одной крышей Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Алексея Мартынова, став своеобразным ядром и прообразом будущей группы «Приват».
Крыша, кстати, была очень надежной — юные инженеры-кооператоры договаривались и с милицией, и с местными партийными органами, которые уловили дыхание новых времен, и быстро нашли общий язык с юной когортой бизнесменов. А чтобы обезопасить себя от наездов почувствовавшего свободу криминала, кооператоры быстро организовали что-то вроде отрядов «дружинников», которые впоследствии столько раз помогали им в неприятных ситуациях с конкурентами. Так что, уже вскоре крышей в масштабах города стали сами партнеры, а конкурентов у них отныне практически не было — что, конечно же, серьезно облегчало ведение бизнеса.
Ориентируясь на потребности и запросы страдавшего от позднеперестроечного дефицита населения, «Фианит» и «Сентоза» продавали гражданам самые разные товары, которые приносили тогда сверхприбыль — от спиртного и сигарет, до спортивных кроссовок, костюмов, косметики и шампуня. Однако приоритетным направлением бизнеса оставалась продажа компьютеров, видеомагнитофонов, телевизоров, ксероксов, закупавшихся за рубежом через Москву, где находился главный офис днепропетровских бизнесменов. Геннадий Боголюбов и сейчас вспоминает о том, как во время путча в августе 1991 года они с Коломойским в панике спешили из Крыма в столицу распадающегося государства, чтобы оперативно поменять на доллары горы скопившихся в офисе «деревянных» рублей, и вернуться обратно в Днепропетровск.
Нефть, металл и банк
Здесь уже вскоре бизнес вышел на новый уровень — еще один партнер Коломойского и Боголюбова Леонид Милославский, сын знаменитого советского подпольного бизнесмена и «цеховика», с большими связями в соответствующих кругах, объяснил коллегам, что на родном металле и нефти можно заработать гораздо больше, чем на импортной пластмассе оргтехники. Ну а после этого вопрос о банковском бизнесе стал на повестке дня сам собой. Точнее, его поднял бывший комсомольский лидер Сергей Тигипко, который в 1992 году обратился к Милославскому, Боголюбову, Коломойскому и Мартынову с предложением открыть свой собственный банк.
Как вспоминал много лет спустя Геннадий Боголюбов, возражал против этого только Игорь Коломойский, который считал, что фирма может без проблем обслуживаться в уже существующих банках. К согласию пришли только тогда, когда Тигипко пообещал вернуть внесенные в уставный капитал средства в виде кредитов компаниям учредителей. После этого бывший комсомолец стал председателем правления новосозданного «ПриватБанка», а Милославский возглавил его наблюдательный совет. Часть акций отошли впоследствии в качестве отступного всемогущему тогда Павлу Лазаренко, и были записаны на его личного шофера.
В полном соответствии с логикой первоначального накопления капитала, главным направлением деятельности «ПриватБанка» на первых порах было участие в ваучерной приватизации. «Простые люди — колхозники, рабочие, инженеры — не понимали, как заработать на сертификатах. А предприимчивые люди — такие, как Тигипко, понимали», — рассказывал Боголюбский. С помощью рекламы на телевидении, в которой лично засветился тот же Тигипко, «ПриватБанк» массово скупал приватизационные сертификаты, собрав около 1,2 млн. ваучеров. И тут же стал покупать на них акции самых прибыльных предприятий страны — начиная с предприятий металлургии и нефтехранилищ.
При этом здесь сразу же обозначился фирменный стиль, которого всегда придерживались Коломойский и Боголюбов — покупая акции Никопольского завода ферросплавов, Орджоникидзевского и Марганецкого ГОКов, банк оставлял контрольный пакет акций за государством. Таким образом, осуществляя реальный контроль над предприятием и присваивая себе его прибыль, приватовцы оставляли государству бремя расходов на системы социального обеспечения трудовых коллективов и существенного экономили на налогах. Ведь принадлежащие им по факту заводы формально оставались государственными. Похожая история произошла и с «Укрнафтой», после того, как в 1999-2003 годах «ПриватБанк» при поддержке Кучмы купил около 43% ее акций, поставив предприятие под фактический контроль своего эмиссара Игоря Палицы. В компанию достаточно было лишь один раз завести «приватовский» менеджмент, а после 43% акций компании позволяли блокировать любой собрание акционеров, которое бы хотело этот менеджмент заменить.
«Бенина гвардия»
Впрочем, дело не ограничивалось простой скупкой акций. Ради захвата предприятий Коломойский и его друзья активно использовали подконтрольные им суды, и специально созданные бригады парней спортивной национальности (до изобретения слова «титушка» было еще очень далеко). Их неформальным лидером был Геннадий Корбан — классический представитель «бандитских девяностых». Именно он помог Боголюбову установить контроль над коксохимическим заводом имени Калинина, в прямом смысле слова поломав сопротивление его владельца Владимира Приймака — после чего Коломойский иронически посоветовал Корбану «зарегистрировать патенты на все свои технологии».
«Консолидировать пакеты акций, поставить своего директора, получить контроль над предприятием — у нас в группе есть серьезные люди, которые в этом разбираются. Но то, как это делал Корбан — творчески, не делал никто», — вторил ему Боголюбов.
Между тем, череда кровавых разборок, которые началась в нулевые с целью «консолидации акций», заставила Коломойского добровольно покинуть страну и поселиться в Швейцарии. Поскольку после конфликтов с Григоришиным, Пинчуком, Ахметовым и другими бизнесменами, Коломойский вполне мог опасаться ответных, не менее жестоких мер. Не говоря уже о том, что отряды «гвардейцев Корбана» терроризировали самых обыкновенных должников, заставляя просрочивших кредиты людей отдавать взамен свою собственность. «Инфарктные бригады», как их впоследствии стали называть.
Подобная практика позволила Коломойскому и его партнерам создать уникальный банк, который, постепенно оплел своими сетями всю страну, и стал обоюдоострым мечом в руках Коломойского. Он не позволял власти расправиться с ним и его бизнесом, из опасений, что в противном случае «ПриватБанк» рухнет, а это приведет к серьезному экономическому коллапсу во всей стране. И даже позволял Коломойскому, шантажируя государство, требовать рефинансирования кредитов банка и дотационных вливаний в приватовский бизнес. После событий 2014 года эта практика достигла Абсолюта. Но, как показывают нынешние события, новая бандитская эпоха перезапустит старые схемы «ПриватБанка» уже под руководством других собственников.
Игорь Сердюков, Ukraina.ru













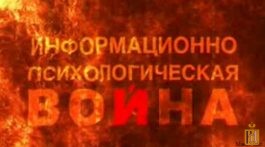

Нет Комментариев