Происхождение флага Донецкой Народной Республики хорошо известно. Некоторые по ошибке считают, что так выглядело знамя Донецко-Криворожской республики 1918-го г. Но это не так. Красно-сине-черный флаг — это сравнительно новое изобретение.
Вот как описывает его появление Владимир Корнилов:
«флаг этот родился в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века при создании Интердвижения Донбасса». Тогда члены этого движения предложили «свою версию флага Донбасса – украинский красно синий (флаг УССР – А.В.) с добавлением внизу черной полоски, символизирующей донецкий уголь».
Позднее, уже в 2000-х, этот флаг использовала общественная организация «Донецкая республика», продвигавшая идеи самоопределения и самоуправления Донбасса. Тогда же появилась и его «перевернутая» версия: черная полоса сверху, потом синяя и красная.
Нужно сказать, что вообще само по себе это довольно редкое в мировой вексиллиологии сочетание цветов. Но, по удивительному совпадению, флаг с такими цветами в истории Новороссии встречался и раньше.
В архивах Венеции хранится описание флага из трех горизонтальных полос: красной, черной и голубой. Посередине каждой из полос стилизованное изображение сердца – на красной полосе синего, на черной полосе красного, а на синей – черного. Поверх полос — две скрещенные сабли и надпись: «Lambro Principe di Maina, e liberator della Grecia» («Ламбро князь Майны и освободитель Греции»).

Характерные атрибуты — скрещенные сабли и «черви»-сердца – не оставляют сомнения: перед нами пиратский флаг. Так и есть. Упомянутый в надписи Ламбро, это Ламбро Качони, он же Ломбардо Каччони, он же Ламброс Кационис — знаменитый греческий «талассомах», национальный герой борьбы за независимость Греции, также известный как «корсар Екатерины Великой».
Лорд Байрон, для которого Качони послужил прототипом для нескольких ярких образов греческих корсаров так писал о нем: «Ламбро Канцони, грек, знаменитый своей борьбой в 1789–90 гг. за независимость своей родины. Покинутый русскими, он сделался пиратом… Он и Рига – два самых великих греческих революционера».
Что касается упомянутого на флаге титула Ламбро, то Майна, или как ее иначе называют Мани, это один из последних осколков Византийской империи сопротивлявшихся туркам. В конце XV в. после падения Константинополя здесь на стороне Венеции сражался знаменитый греческий военачальник Кладас Крокодилас, родовая башня которого была расположена в Мани. После того, как венецианцы заключили с турками мирный договор, грек продолжил борьбу, но был вытеснен из Мореи превосходящими силами противника. Крокодилас не сложил оружие, и перенес свою борьбу в Химару, где сражался вместе с сыном знаменитого Скандербега Кастриоти. После того, как он вернулся в Мани, чтобы поднять в тылу у османов новое восстание, Крокодилас был схвачен турками и жестоко казнен. На службе у Венеции борьбу с турками продолжили сыновья Крокодиласа. Отбить Морею венецианцам удалось только в конце ХVII в., во время Великой турецкой войны, однако это был последний успех Республики Св. Марка. Нанеся на Пруте поражение Петру, османы решили поквитаться и с Венецией и в 1718 г. вернули утерянные территории. Однако, их контроль над Мани был чисто номинальным.
В составе Османской империи ко второй половине XVIII в. сохранялось несколько своеобразных анклавов, в которых благодаря горному ландшафту, с характерной для него чрезвычайно скудностью ресурсов, сформировались весьма специфические сообщества. Классический комплекс характерных для них признаков описан в работе «Горы и демократия» известного российского политантраполога А.В. Коротаева: кланы, башни, кровная месть, распри, набеговая экономика, эгалитаризм. Эти признаки с удивительной устойчивостью воспроизводятся в Йемене, на Кавказе, Апеннинах или в Морее, как в Средние века на славянский манер называли Пелопоннес. Чтобы не утомлять долгим описанием экзотических подробностей скажу, что в качестве ближайшей аналогии этим регионам можно назвать Чечню.
Вот как характеризуются маниоты в отчете побывавшего на полуострове в 1764 г. русского резидента Ивана Палатино: «по случаю их вольности и неподчинения никакому государю, допущают к себе мальтийских корсар и бандитов и всякой нации разбойников, а иногда и сами выходят в море для добычи, где, ограбив турков, берут в полон, а иных и умерщвляют, что случается иногда и над христианами разных наций».
Именно на такие анклавы русское правительство опиралось в своей борьбе с Турцией. Во время «Румянцевской» русско-турецкой войны 1768-1774 гг. в Средиземном море действовала эскадра графа Алексея Орлова. Т.н. «Первая Архипелагская экспедиция» стала настоящей кузницей кадров Новороссии. Вот только некоторые участники – граф Войнович (графскую пристань в Севастополе все слышали? В честь него), И.А.Ганибалл (один из основателей Херсона, у Пушкина в «Родословной»: «и пал впервые Наварин» это про него), де Рибас (без комментариев). И вот в этом славном ряду стоит и Ламбро Качони, завербовавшийся с братом в эскадру простым моряком и дослужившийся в ней до сержанта.
Ярким эпизодом экспедиции стало восстание в Морее ударной силой которого были маниоты, действовавшие при поддержке русской морской пехоты. Восстание было подавлено, часть греков ушла на русские корабли. Они воевали в отрядах морской пехоты, после окончания войны были перевезены в только что отвоеванную Керчь, посажены там под именем Албанского войска, а после аннексии Крыма, наконец, обосновались в Балаклаве.
Новую русско-турецкую войну Качони встретил уже в звании капитана, успев поучаствовать в подавлении татарского бунта в Крыму и персидской экспедиции Войновича. В кампании 1787 г. он сражался на Лимане и в Черном Море под началом адмирала Мордвинова. На рейде Хаджибея его отряд захватил греческое судно, которое вошло в состав корсарской флотилии под именем «Князь Потемкин Таврический» — корабль Ламбро был первым на Черноморском флоте под этим именем.

Именно тогда созревает план направить Ламбро Качони для ведения корсарских действий в турецком морском тылу – на Архипелаге. Он получает чин майора и через Вену выдвигается в порт Триест. Отправка Ламбро в Средиземное море — яркий пример «частно-государственного партнерства». Со стоны государства был Потемкин, который видел в действиях Качони реализацию своего Греческого проекта, посредниками были братья Мордвиновы, адмирал и дипломат, которые субсидировали предприятие сами, и привлекли к этом компаньонов. В финансировании проекта поучаствовала даже польская Компания Черноморской торговли, в лице директора херсонской конторы Бальтазара Скодовского, основоположника знаменитого рода новороссийских помещиков (в котором и знаменитый южнорусский художник, и основатель города Скадовск, и даже прославленный церковью священномученик).
Начавшаяся война со Швецией не позволила России повторить Архипелагскую экспедицию балтийской эскадры и основная тяжесть противостояния с турками в Средиземноморье легла на корсаров. Ламбро провел на Средиземном море три полноценных кампании, в 1788, 1789 и 1790 гг. Его флотилия, начавшись с одного трехмачтового корабля, названного в честь Екатерины «Минервой севера» выросла до десяти и более вымпелов. Он захватывал торговые и военные корабли, крепости, сражался с турецкими эскадрами. На Архипелаге Ламбро женился на красавице гречанке Ангеле с острова Кеа, который стал piazza d’arme его эскадры.
При этом Ламбро находился в состоянии перманентного конфликта с официальным российским командованием в Средиземноморье, Екатерина отзывала его корсарский патент, его сажали под арест, но, в конечном счете, все эти инциденты разрешались в его пользу. За успехи на архипелаге Качони был произведен вначале в подполковники, а затем и в полковники, стал георгиевским кавалером.

Заключенное в августе 1791 г. перемирие между Россией и Турцией застало Ламбро во главе флотилии из 21 одного корабля готовой к наступательным действиям в Архепелаге. Однако результаты заключенного по итогам войны Ясского мира глубоко разочаровали греков. Они почувствовали себя преданным – ни в одной из его статей Греция даже не упоминалась. Тогда с частью своих моряков он фактически открыто выходит из повиновения российского командования и объявляет, что будет продолжать борьбу за освобождение Греции. «Екатерина заключила с турками мир, но я – еще нет», — заявил корсар. Он перенес базу своей флотилии в один из портов на побережье Мани, и призвал греков к восстанию. Именно тогда он и поднял над своей эскадрой упомянутый красно-черно-синий триколор. Однако, самостоятельная борьба Ламбро была недолгой. Маниоты отказались следовать призыву самопровозглашенного «князя Майны», слишком свежи были в памяти последствия восстания 1770 г., после подавления которого Морея недосчиталась до 15% православного населения, и еще десять лет была разоряема грабительскими отрядами албанских беев. Без присутствия русских войск и флота браться за оружие не хотели даже воинственные черногорцы, албанцы Али-Паши, химариоты и жители Мани.
Итог восстания Качони был закономерен – турецкая эскадра при участии французов, торговля которых страдала от действий корсаров, окружила базу Ламбро и уничтожила его флотилию. Маниоты под давлением турок потребовали от его людей убираться с полуострова по добру по здорову. Сам Качони сумел выскользнуть из ловушки, многие его люди также сумели спастись, но было немало и тех, кто погиб или был взят в плен.
Лишь спустя два года Ламбро получил прощение и смог вернуться в Россию, вначале в Херсон, а потом в Петербург. Здесь он очень благосклонно был принят Екатериной. Специальная комиссия несколько лет разбирала деятельность эскадры, различные жалобы и финансовые обязательства. В итоге Ламбро был оправдан по всем эпизодом и получил из казны значительную сумму за свои труды. Однако судебные тяжбы с могущественными братьями Мордвиновыми сопровождали его еще много лет. Сам Ламбро осел в Крыму, где подаренное ему Екатериной имение назвал в честь своего родного города — Ливадией. Это та самая Ливадия, которая со временем стала летней резиденцией Романовых и где проходили заседания знаменитой Ялтинской конференции. Погиб Ламбро при загадочных обстоятельствах (вероятно был отравлен) в 1805 г. Многие из моряков его флотилии осели и в Одессе, где на их основе был сформирован аналогичный Балаклавскому Греческий дивизион. Названием Арнаутских улиц мы обязаны им.

Недавно вокруг оценки деятельности Кациониса развернулась настоящая баталия. Российская исследовательница екатерининского ВМФ доктор наук, профессор Галина Гребенщикова, автор монографии «Черноморский флот в период правления Екатерины II» в интервью газете «Санкт-Петербургские ведомости» дала такую характеристику Ламбро:
«Он оказался обыкновенным пиратом, который грабил и убивал своих же соотечественников-греков, воевал в основном против мирных жителей, захватывал суда нейтральных держав – венецианские, рагузинские, высаживал десанты своих мародеров на греческой территории находившейся под властью Турции».
Эта публикация и схожие тезисы, высказанные в научных работах Гребенщиковой, были с возмущением встречены не только отечественной патриотической общественностью, но и вызвали волну возмущений в Греции. В ответ на эти обвинения было издано множество статей и даже отдельная полемическая монография, написанная совместно российскими и греческими историками.
Помимо чисто фактологических неточностей, на которых основываются нелицеприятные характеристики Ламбро, важен один концептуальный момент. Оценивая исторические фигуры и события, мы никогда не должны забывать, что наши современные представления и моральные нормы могут довольно сильно отличаться от тех, что были приняты в рассматриваемых нами обществах и эпохах.
Особенно если речь идет о войнах, в особенности о тех, что ведутся повстанцами, иррегулярными войсками и ополченцами. Чаще всего они сопровождаются скрытым и явным вмешательством соседних держав, причем не просто дипломатическим, но и военным. А ведь, как правило, именно так ведутся войны за национальную независимость и свободу. Т.е. те конфликты, которые затем полагаются в основания национальной идеи и идентичности, а значит их реальные, зачастую довольно темные, подробности тщательно выхолащиваются, а герои сакрализируются.
Историк и писатель С.А.Пинчук-Галани очень верно обратил внимание на цитату французского собирателя греческого фольклора Клода Фориеля, который в предисловии к сборнику «Простонародные песни нынешних греков» дал такую характеристику героям большинства из этих песен:
«До первых времен вторжения турок в земли греческие восходит начало земского ополчения у греков известного под названием арматолов, т.е. людей, носящих оружие…Часто, с оружием в руках, они набегали на поля и небольшие города; грабили победителя, а при случае и побежденных, упрекая их в том, что поддаются неверным. С той поры арматолов начали называть клефтами»
Как видим, эти два описания действий греческих борцов с турками совпадает едва ли не буквально, при том что моральная оценка современной исследовательницы и греков 18 – 19 вв., слагавших и исполнявших эти «простонародные песни», диаметрально расходятся.
Я думаю, что историю Ламбро Качони нам стоит вспоминать всякий раз, когда мы пытаемся давать оценки людям, которые взялись за оружие для того, чтобы бороться за освобождения своей земли. С точки зрения турок – Ламбро изменник. С точки зрения французов – преступник. Даже для греческих купцов, которых он «крышевал» и у которых «отжимал», вряд ли Ламбро был положительным персонажем. Равно как и для своих кредиторов, которые вполне оправданно могли обвинять его в финансовой нечистоплотности. Российское военное начальство имело все основания считать его бунтовщиком и даже дезертиром. Но для греков Ламброс Кационис без всяких полутонов считается великим национальным героем, человеком который применял все доступные ему средства для освобождения своей Родины. И я не вижу основания отказать полковнику Ламбро Качони в достойном месте среди пантеона героев Новороссии.












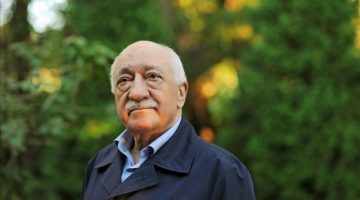
Нет Комментариев