Сергей Васильевич Зубатов – одна из наиболее известных фигур в царских спецслужбах накануне революции, сотрудник, затем глава Особого отдела охранного отделения.
Обучаясь в гимназии, Зубатов увлёкся модными в то время идеями нигилизма. В 1882 году создал в гимназии кружок нигилистов, где стал лидером, часто спорил с учителями. Изучал работы таких авторов как Д. И. Писарев (тогда запрещенный), Н. Г. Чернышевский, В. В. Берви-Флеровский, Дж. Милль, Г. Спенсер, Ч. Дарвин, К. Маркс и др. В 1884 году был отчислен из 7 класса гимназии по настоянию отца, недовольного тем, что сын связался с неблагонадежными лицами.
 После отчисления Зубатов работал канцелярским служащим и заведующим частной библиотекой А.Н. Михиной, на которой затем женился. В библиотеке Михиной можно было достать книги, изъятые из обращения, и потому она была популярна среди молодежи. Зубатов же выдавал всем желающим запрещённую литературу.
После отчисления Зубатов работал канцелярским служащим и заведующим частной библиотекой А.Н. Михиной, на которой затем женился. В библиотеке Михиной можно было достать книги, изъятые из обращения, и потому она была популярна среди молодежи. Зубатов же выдавал всем желающим запрещённую литературу.
Зубатов общался с членами народовольческих кружков, в которых сам не состоял, но, несмотря на идейные расхождения, позволял народовольцам пользоваться своей библиотекой. Летом 1886 года он был вызван на допрос к начальнику Московского охранного отделения Н.С. Бердяеву. Тот сообщил Зубатову, что его библиотека использовалась членами революционных кружков в качестве конспиративной квартиры, и по этой причине он привлечён как один из подозреваемых.
Зубатов, по его словам, возмущенный тем, что «красные иезуиты» без его ведома превратили его библиотеку в «очаг конспирации», «дал себе клятву бороться впредь всеми силами с этой вредной категорией людей, отвечая на их конспирацию контр-конспирацией, зуб за зуб, вышибая клин клином». Поэтому он согласился на предложение ротмистра Бердяева стать секретным сотрудником охранного отделения, чтобы таким образом «раз навсегда снять сомнение в своей политической неблагонадёжности».
Осенью 1886 года Зубатов начал свою работу в качестве секретного сотрудника. Он составил письмо на имя известного народовольца Василия Морозова, в котором выражал желание поддержать народовольческую организацию и просил снабдить его рекомендательными письмами. Морозов, знавший Зубатова, поверил и характеризовал его товарищам как верного человека. В течение года, с 1886 по 1887 год, Зубатов разыгрывал роль революционера и добился больших успехов. Оказывая революционерам различные услуги, он освещал их деятельность в охранном отделении, благодаря чему полиции удалось раскрыть многих видных народовольцев, таких как В.Н. Морозов, В.А. Денисов, А.А. Ломакин, М.Р. Гоц, М.И. Фундаминский, М.Л. Соломонов, С.Я. Стечкин, В.Г. Богораз, З.В. Коган, К.М. Терешкович, Б.М. Терешкович, С.М. Ратин, И.И. Мейснер, М.А. Уфлянд и другие.
В 1887 году Зубатов был разоблачён и объявлен «провокатором», после чего пошел служить в полицию открыто. С 1 января 1889 года он был зачислен в штат Московского охранного отделения.
Много лет спустя Зубатов признавался в одном из писем: «Справедливость требует добавить, что в кратковременный период контрконспиративной деятельности (несколько месяцев) имело место два-три случая, очень тяжёлых для моего нравственного существа, но они произошли не по моей вине, а по неосмотрительности и из-за неумелой техники моих руководителей». Такое признание вряд ли нуждается в пояснениях…
В новой должности Зубатов активно принялся за работу. Встав во главе Особого отдела, он начал реформу всей системы политического сыска. По его инициативе во всех крупных городах империи были созданы охранные отделения, подчинённые непосредственно Департаменту полиции. Во главе вновь созданных отделений ставились офицеры зубатовской школы, обученные его методике политического сыска. Можно видеть, что Зубатов уделял внимание кадровой и организационной работе.
Мысля системно, Зубатов понимал, что одних репрессивных мер в борьбе с революционным движением явно недостаточно. Нужно было что-то менять… Союзников правительства для борьбы с идейной социал-демократией Зубатов увидел в лице рабочих, которые, как правило, отстаивали исключительно материальные интересы, не углубляясь в революционную идеологию. Но для того чтобы лишить революционных вождей влияния на рабочие массы, необходимо было, чтобы сама власть пошла навстречу экономическим требованиям рабочих.
В апреле 1898 года Зубатов составил докладную записку, где предлагал программу мер для улучшения положения рабочих. Записка была передана московскому обер-полицеймейстеру Д. Ф. Трепову. Он представил её в виде доклада московскому генерал-губернатору Сергею Александровичу. Поначалу зубатовская инициатива была принята с пониманием, и тот приступил к разъяснительной работе. Во время допросов он объяснял рабочим, что монархия не является их врагом и что рабочие могут добиться удовлетворения своих интересов при существуем строе.
Надо понимать, что идеологом С.В. Зубатов не был. Его концепция совмещения рабочего движения с монархической идеей носила чисто практический характер. Идеологом для зубатовцев стал монархист Лев Тихомиров, бывший революционер-народоволец. Но Зубатова вполне можно назвать одним из первых практиков социал-монархизма. С одной стороны, зубатовское движение следовало формуле «монархическая власть плюс социальная справедливость». С другой, предлагала новую модель политического представительства – по профессиональному (корпоративному) принципу, позднее теоретически развитую Солоневичем.
Как известно, в своей деятельности Зубатов добился определенных успехов. Ему удалось создать крупные рабочие организации, противостоящие социал-демократам с одной стороны и защищающие интересы рабочих перед фабрикантами с другой. Для чтения лекций рабочим он приглашал специалистов из интеллигенции, в числе которых был известный священник Гапон. Впрочем, найти интеллектуалов, согласных сотрудничать с зубатовским движением, было непросто – в либеральных интеллигентских кругах Зубатов и его последователи стяжали славу «провокаторов».
Но затем зубатовские организации закономерно вступили в конфликт с интересами фабрикантов, не собиравшимися облегчать положение рабочих. Их всецело поддерживало правительство, занимающееся строительством в России капитализма по западному образцу. Далее мелких уступок правящий слой не пошел, системе же требовались коренные изменения… Их предложили (и осуществили) уже другие – Ленин и его последователи.
Таким образом, зубатовское движение оказалось между двух огней: с одной стороны, с ним боролись прекрасно организованные и имеющие четкую программу действий социал-демократы, разоблачавшие «провокаторов» в своих газетах. С другой, зубатовцы стали врагами внедряемой в стране капиталистической системы и отдельных фабрикантов, стремящихся к наживе, и встречали все большее непонимание со стороны правительства.
Гром грянул в Одессе, летом 1903 года. Местный руководитель зубатовского союза, профессор философии Шаевич объявил о независимости своих рабочих организаций. К процессу сразу же подключились сторонники Ленина с революционными лозунгами. Началась забастовка, беспорядки, затем жестко подавленные полицией. Государю было доложено, что зачинщик возмущения – Зубатов.
К тому времени отношения неутомимого реформатора с министром внутренних дел В.К. Плеве, с которым и раньше возникали разногласия из-за его неприятия зубатовских новаций и однобокой репрессивной политики, испортились окончательно.
Видя крах своего дела, Зубатов не нашел ничего лучшего, как обратиться за помощью к своему недоброжелателю, министру финансов Витте, одной из знаковых фигур российского капитализма. Разумеется, нужды рабочих интересовали Витте в последнюю очередь. Вот что писал впоследствии жандармский генерал Спиридович, ученик Зубатова: «Идея Зубатова была верна… но проведение ее в жизнь было уродливо и неправильно. Оно явилось казенным, полицейско-кустарническим и шло, как говорится, не по принадлежности. Для профессионального русского рабочего движения не нашлось в нужный момент национального, свободного, общественного вождя. Не выделило такого реформатора из своих рядов и правительство. У Витте как министра финансов не оказалось ни глубокого знания и понимания рабочего вопроса, ни государственного чутья к нему, ни интереса».
Видимо, Зубатову действительно было некуда обратиться, если он пошел искать именно у Витте поддержки против Плеве. Как вспоминал затем Витте, Плеве узнал об этой беседе от князя Мещерского, которому Зубатов затем все рассказал. Не исключено, впрочем, что и сам Витте способствовал скорейшей отставке неудобного деятеля: «…мне сделалось известным, что Зубатов отправился к князю Мещерскому и то же самое говорил князю Мещерскому, причем сказал, что был у меня, говорил все это и просил моего вмешательства, чтобы я уговорил Плеве перестать вести его мракобесную политику, и что я от этого отказался. Тогда князь Мещерский поехал к Плеве и все ему рассказал, причем сказал, что Зубатов был у меня».
 В годы Первой русской революции Зубатов пытался заняться публицистикой и разместил несколько статей с изложением своих монархических взглядов в газете В. П. Мещерского «Гражданин». Но личность Зубатова вызывала неприятие как правых, так и левых партий.
В годы Первой русской революции Зубатов пытался заняться публицистикой и разместил несколько статей с изложением своих монархических взглядов в газете В. П. Мещерского «Гражданин». Но личность Зубатова вызывала неприятие как правых, так и левых партий.
Как уже было сказано выше, проект зубатовского рабочего движения был чисто технологическим ходом. Таким образом он пытался вырвать у социал-демократов мощнейший революционный инструмент – коллектив рабочих. При этом противников капитализма Зубатов не был, о чем писал позднее в своей статье о «зубатовщине»: «Наименование её „полицейским социализмом“ лишено всякого смысла. С социализмом она боролась, защищая принципы частной собственности в экономической жизни страны, и экономической её программой был прогрессирующий капитализм, осуществляющийся в формах всё более культурных и демократических (почему-то кажущихся нашим российским капиталистам „антикапиталистическими“). Полицейские меры, как чисто внешние, опять-таки её не занимали, ибо она искала такой почвы для решения вопроса, где бы всё умиротворялось само собой, без внешнего принуждения».
Вряд ли он до конца понимал суть капитализма. Его главной задачей было охранять власть, а власть признавала капитализм. Признавал и Зубатов. Права власти для него были священны. Там, где они начинались, оканчивались границы самодеятельности права власти — «всё должно направляться к власти и через власть». Служение – это было делом всей жизни (и даже превыше жизни), это было серьезно.
Второй и, пожалуй, главный аспект деятельности Зубатова – собственно, политический розыск. Здесь нужно сказать о структуре российских спецслужб того времени: охранное отделение, в просторечии, «охранка» – название структурных органов департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи, занимавшихся политическим сыском. Сам департамент – преобразованное Третье Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. В состав охранки входил ряд делопроизводств. В частности, 3-е «секретное» делопроизводство отвечало за политический розыск, надзор за политическими партиями и движениями и борьбу с ними.
Московское охранное отделение, где служил Зубатов, подчинялось Особому Отделу Департамента полиции. Начальник МОО Зубатов регулярно отчитывался перед главой Особого Отдела Л.А. Ратаевым, а обер-полицмейстер Москвы Д.Ф. Трепов отправлял аналитические записки Зубатова на имя директора Департамента полиции С.Э. Зволянского. Московская охранка была, пожалуй, главным действующее подразделение департамента полиции. В 1902 г Зубатов сменил Ратаева на его должности.
Сергей Васильевич, принявшийся за дело со всей своей энергией, столкнулся с распадом системы – запутанной иерархией межведомственных отношений, взаимодублированием ведомств, постоянно возникавшими на этой почве конфликтами, хроническим безденежьем, неорганизованностью. Сам Зубатов характеризовал все это как «удивительные беспорядки, царящие в земле российской»… Препятствия в работе создавал ряд факторов: недоверие к агентам со стороны рабочих обществ и противоречия последних с фабричными инспекторами, целенаправленное создание помех политическому сыску в тюрьмах, нейтралитет руководителей Департамента полиции в многолетнем конфликте между Главным Жандармским Управлением и охранными отделениями.
Зубатов выразительно описал «удивительные беспорядки», ставшие рабочими буднями политического сыска: «…мы за всех сработать не можем: мы агентурим, мы выслеживаем, мы арестуем, мы допрашиваем, мы тюремствуем, мы родным слезы вытираем, мы подштанники принимаем, мы на вокзал отправляем, мы официальную переписку ведем. Словом, за всех и за вся. Как отстранимся, так скандал. За всеми учреждениями как нянька ходи, да своих дел не забывай… Ах если б можно было только своим делом заниматься! А им приходится заниматься между делом… Словом, все посторонние лица и учреждения существуют только для того, чтобы портить нами сделанное» [Там же: 193]. Страдало дело, росла угроза самому существованию государства. Зубатов же ничего не мог предпринять.
Кроме того, начальник московской охранки был недоволен постоянным вмешательством Трепова, с которым находился в личном конфликте: “Должностные полномочия Зубатова явно не соответствовали размаху его планов, а любые начинания и мероприятий он был обязан согласовывать с далеко не всегда сговорчивым Д.Ф. Треповым: “Трепов властно распоряжается, но мало соображает, мы соображаем, но не можем распоряжаться. А сговориться – не в привычках Трепова”» [Там же: 183].
Конфликт Трепова и Зубатова не исчерпывался личными амбициями обоих – правоохранители не нашли общего языка в плане организации работы. Прямолинейность недалекого Трепова вела к многочисленным провалам в розыскной работе, которую скрупулезно вел Зубатов, годами воспитывая ценнейшие кадры секретных агентов: «Повальные аресты и обыски, производившиеся по распоряжениям Д.Ф. Трепова, сильно компрометировали Зубатова перед собственной агентурой, завербованной из числа революционеров. Усилия Д.Ф. Трепова, целиком и полностью повторяющие опыт борьбы с крамолой прошлых лет, подрывали новаторские действия начальника московского охранного отделения. Когда в феврале 1901г Д.Ф. Трепов в очередной раз провалил все его планы, Зубатов написал: “Я во всем виню Д. Ф-ча: он опозорил Москву, скомпрометировал Великого Князя, явив дурной пример не бывалого в Москве, который будут стремиться повторить искусственно (и не только в Москве)”. Состоявшиеся массовые аресты в очередной раз провалили работу Московского охранного отделения: “Мы крупицами арестовывали, а тут одним махом сведена вся работа на нет. Больно, досадно, обидно и готов укусить собственный локоть, да поздно, не достанешь уж его”, — досадовал Зубатов» [Там же: 183].
Агентуру трудно воспитать, но легко в один миг утратить. А от наличия хорошей агентуры зависел успех всего дела. Вообще, сама служба в качестве секретного сотрудника и, особенно, ее последствия не были завидными. В случае разоблачения от таких людей отворачивались друзья и коллеги и даже близкие, они не могли устроиться на работу, а пенсию им бывшее начальство часто не платило либо платило мизерные суммы. В ГАРФ, где хранятся резолюции межведомственных совещаний, агентурные записки полицейских служащих, перлюстрированные письма арестованных революционеров, в частности, сохранилось немало просьб бывших «шпионов» о денежной помощи. Следует отметить, что многие из них изначально шли на эту службу, чтобы содержать многочисленные семейства.
Политическая полиция глубоко проникла в университетскую среду, бывшую рассадником революционных настроений. Разумеется, подозрительность и ненависть студентов и преподавателей к предполагаемым агентам только росла. То же наблюдалось и в рабочей среде. Охранка также активно работала в тюрьмах, которые стали местом по передаче опыта нелегальной деятельности. Арестанты свободно обменивались письмами, революционеры со стажем читали лекции начинающим.
При этом нарушения тюремного режима, бывшие в порядке вещей, соседствовали с неоправданно жестокими мерами, применявшимися к некоторым арестантам, вроде помещения последних в тюремную больницу и выдачи им там халатов, зараженных сифилисом или туберкулезом. А правоохранительные ведомства продолжали бороться друг с другом: «В первые годы XX в. Московские тюрьмы постепенно стали плацдармом нешуточной ведомственной борьбы между охранными отделениями и губернскими жандармскими управлениями. Чины обоих учреждений обвиняли другу друга в формальной работе, приводящей к многочисленным нарушениям дисциплины в тюрьме» [Там же: 192].
…В письмах секретных сотрудников и студентов, связанных с революционными кружками, фигурирует немецкий город Шарлоттенбург. Там проживала последние годы своей жизни Зинаида Жученко-Гернгросс, бывшая одним из лучших зубатовских агентов. Ее жизненный путь теряется в 1917 году, до которого она, арестованная с началом Первой мировой войны немецкими властями по обвинению в шпионаже, находилась в тюрьме. Дальнейшая ее судьба неизвестна. Видимо, понадобилась определенным политическим силам как носитель информации – обычная история агента спецслужб, добившегося успехов в своем непростом деле. Зубатов оценил ее достижения, добившись для нее в свое время хорошей пенсии. Он вообще трепетно относился к своей агентуре. Оценили и враги – по-своему.
Еще один секретный сотрудник из числа зубатовских любимцев – Анна Серебрякова. Ее судьба прекрасно демонстрирует, как «оценивало» труд агентов охранки общество. Арестована после революции, в 1924 году. Муж, получивший документальные свидетельства ее «провокаторской деятельности», развелся с ней. Сын отказался от матери, а дочь на почве пережитого помешалась. Серебрякова была приговорена к семи годам лишения свободы. Умерла в тюрьме.
 А сколько еще безызвестных помощников Сергей Васильевича Зубатова сгинуло бесследно и бесславно? Но стоит упомянуть еще о двух ярких фигурах зубатовской школы – Евно Азефе и священнике Георгии Гапоне. Первый – темная личность, как говорил о нем сам Зубатов, «натура афористическая», многого достиг и в охранке, и в организации социалистов-революционеров, не будучи преданным ни первой, ни второй. Такова ночная природа спецслужб – им часто приходится иметь дело с натурами темными и нечистыми, потому что и сами спецслужбы охраняют государство по ту сторону дня.
А сколько еще безызвестных помощников Сергей Васильевича Зубатова сгинуло бесследно и бесславно? Но стоит упомянуть еще о двух ярких фигурах зубатовской школы – Евно Азефе и священнике Георгии Гапоне. Первый – темная личность, как говорил о нем сам Зубатов, «натура афористическая», многого достиг и в охранке, и в организации социалистов-революционеров, не будучи преданным ни первой, ни второй. Такова ночная природа спецслужб – им часто приходится иметь дело с натурами темными и нечистыми, потому что и сами спецслужбы охраняют государство по ту сторону дня.
Печально известный Георгий Гапон – одаренная, восторженная натура, харизматический лидер. Ценный сотрудник Зубатова быстро сделался самостоятельной фигурой. Честолюбивую и не слишком дальновидную личность неосторожно подпустили к политической власти, которая в неопытных руках сродни яду или взрывчатке. С одной стороны – стихия народных масс, с другой – карательная машина больного, но все же государства. И между ними – харизматичный проповедник, возомнивший себя пророком. Взрыв получился немалой силы – с массами и государством играть не стоит.
Сам же Сергей Васильевич до того сросся всем своим существом с земным делом, заменившим ему душу, и, видимо, веру, что отказался от вечности, застрелившись холодным мартовским днем, узнав об отречении царя. Услышав новость, Зубатов понял только, что это – провал. Окончательный и бесповоротный, подведший черту под его личным провалом, последовавшим еще в 1903 году.
Незадолго до гибели он смотрел в окно и задал свой последний вопрос: «Какая нынче будет весна?»










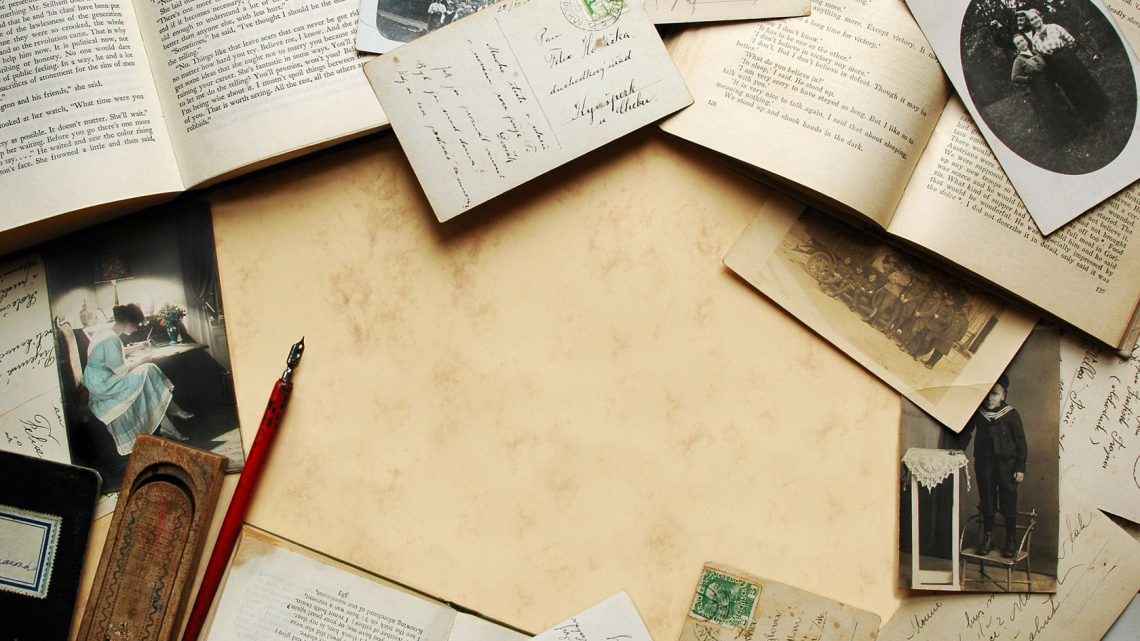




Нет Комментариев