В конце прошлой недели министры иностранных дел четырнадцати европейских стран, включая Германию, а также Францию, Италию и Испанию, выступили с заявлением, в котором предложили начать «структурированный диалог» о возобновлении контроля над обычными вооружениями в Европе. По сути, это развитие августовской инициативы министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Министры пишут, что озабочены «продолжающейся эрозией европейского порядка в сфере безопасности», тем, что такие его договорные инструменты, как Договор об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ), Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности и Договор по открытому небу не работают, или нуждаются в серьёзной модернизации.
Соответственно, они предлагают «перезапустить» систему контроля над обычными вооружениями в Европе, имея в виду более широкую цель «восстановления стратегической стабильности, сдержанности, предсказуемости, открытости, сокращения военных рисков».
В заявлении можно встретить много других красивых фраз, типа «истинная и эффективная безопасность, основанная на сотрудничестве» или «неделимость европейской безопасности». И в этом нет ничего странного: близится очередная встреча министров иностранных дел ОБСЕ, которую организует Германия — нынешняя страна-председатель этой организации.
Что думает Россия
Здесь уместно напомнить, что на первоначальное предложение Франка-Вальтера Штайнмайера МИД России отреагировал весьма осторожно, подчеркнув несколько основополагающих для понимания нашей позиции моментов.
Первое: Россия в принципе выступает за существенное обновление режима контроля над обычными вооружениями в Европе и его приведение в соответствие с нынешними военно-политическими реалиями.
Второе: наше видение ситуации в этой сфере существенно расходится с германским, в том числе, и в вопросе об ответственности за то, что адаптированный вариант ДОВСЕ, принятый на Стамбульском саммите ОБСЕ в 1999 году, не вступил в силу — она полностью лежит на странах НАТО, отказавшихся его ратифицировать.
Третье: нам важно знать, как на германскую инициативу откликнутся «те её союзники, чьими усилиями диалог по контролю над обычными вооружениями был заведён в тупик и заморожен», то есть США и Великобритания.
Что же мы видим в заявлении от 25 ноября? Подписи США и Великобритании под ним отсутствуют, а ответственность за то, что режим контроля над обычными вооружениями в Европе расшатан, вновь возлагается исключительно на Россию.
В этом, впрочем, нет ничего странного, поскольку без каких-либо рациональных подвижек остаётся сама внешнеполитическая философия наших западных оппонентов.
Зачем Европе понадобились новые формы контроля за вооружениями
На мой взгляд, инициатива Штайнмайера имеет целью вовсе не снятие остроты военного противостояния у границ России — а именно об этом сегодня надо предметно говорить, — и не о некой абстрактной «общеевропейской безопасности».
Речь идет о создании нового международного формата для усиления политического давления на нашу страну.
Если бы западные страны действительно хотели восстановить в наших отношениях предсказуемость и открытость, они бы логично исходили из того, что это невозможно без восстановления доверия. А раз так, то глупо идти по пути навязчивого повторения обвинений нашей страны в нарушении принципов международного права, в то время как в последние четверть века оно многократно было попрано и продолжает попираться самими странами НАТО и ЕС.
Нам же нечего стыдится того, что мы проявили уважение к праву народа Крыма на самоопределение. Тем более никто не вправе обвинять нас в том, что Россия остановила массовые преступления незаконного киевского режима на той территории Восточной Украины, где население отказалось его признать.
Избирательная память
В своём заявлении четырнадцать министров во главе со Штайнмайером пытаются обвинить нашу страну в нарушении принципов Заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975). Уже само выборочное перечисление ими этих принципов говорит о многом.
Авторы, вероятно, надеются, что в памяти людей осталось только то, что выгодно им, причём только в удобной им трактовке, а об остальном не только обычный обыватель, но и рядовой журналист и даже политик сегодня в Европе не вспомнит. А мы вспомним.
Среди десяти основополагающих принципов Хельсинкского акта присутствует, например, право государств «свободно выбирать и развивать свои политические, социальные, экономические и культурные системы», а также «устанавливать свои законы и административные правила». Разве не было оно попрано Западом в момент уничтожения им бывшей Югославии?
Или право государств, то есть законно избранных органов их власти, «определять и осуществлять по своему усмотрению их отношения с другими государствами», а также «принадлежать или не принадлежать к международным организациям, быть или не быть участником двусторонних или многосторонних договоров». В случае с Украиной таким правом обладал президент Виктор Янукович, но он не захотел стать участником невыгодного его стране соглашения об ассоциации с ЕС, и Запад его смёл.
В Хельсинкском акте государства-участники взяли на себя обязательство «воздерживаться в международных отношениях от применения силы или угрозы силой как против территориальной целостности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций и с настоящей Декларацией».
Вспомним в этой связи длинный список противоправных действий США и их союзников в отношении суверенитета многих государств нашей планеты за последние годы.
Или вот обязательство «воздерживаться от оказания прямой или косвенной помощи террористической деятельности или подрывной или другой деятельности, направленной на насильственное свержение режима другого государства-участника».
Сильно звучит в связи с действиями США, Германии и Франции в 2014 году на Украине, не правда ли? Тем более если меть в виду обязательство «воздерживаться от любого вмешательства, прямого или косвенного, индивидуального или коллективного во внутренние или внешние дела, входящие во внутреннюю компетенцию другого государства-участника».
Министры с намёком на Россию говорят о попираемом сегодня в Европе принципе неприкосновенности международных границ. Но разве сама Германия не нарушила его в 1991 году, признав бывшие Латвийскую ССР, Литовскую ССР и Эстонскую ССР в качестве независимых государств ещё до того, как СССР прекратил своё существование, и даже до того, как отделение этих республик констатировал не имевший на это права по конституции Государственный совет СССР?
Что же касается принципа уважения территориальной целостности государств, о котором тоже говорится в заявлении 14 министров, то его нельзя рассматривать в отрыве от также закреплённого в Хельсинки принципа уважения права народов самим распоряжаться своей судьбой. Оно, понятно, в этом заявлении не упоминается.
Разница в подходах
Рассуждения по поводу нечестного отношения четырнадцати министров к трактовке Хельсинкского акта и принципов международного права в целом можно было бы продолжить, но главное, уверен, и так понятно.
Мотивы авторов заявления от 25 ноября далеки от интересов действительного восстановления доверия в Европе, а без доверия серьёзные новые договорённости по контролю над вооружениями невозможны.
Напрашивается и другой вывод: сейчас мы в принципе не имеем оснований говорить о наличии у России и Запада так называемых «общих вызовов и угроз». Даже к угрозе международного терроризма, как показывает происходящее в Сирии, мы подходим по-разному.
Главный вызов для НАТО и ЕС — это наша независимость, наша суверенная внешняя и внутренняя политика. Мы от неё не откажемся, но и современные западные политики в своём стремлении переломить нас зашли слишком далеко, чтобы отказаться от своей трактовки этого вызова как угрозы и от использования её для наращивания давления на нашу страну. Стоит ли вести с ними содержательные переговоры по вопросам долгосрочного свойства, создавая иллюзию, что мы с такой политикой готовы смириться? Уверен, что нет.














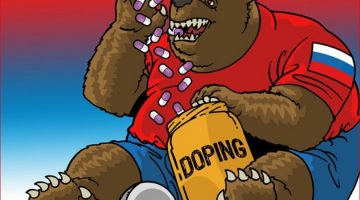
Нет Комментариев