Монетизация международных отношений и выбивание денег из истории.
Западные государства не стесняются выставлять друг другу огромные счета за военные действия, притеснения и другие виды ущерба. Но Россия совсем не пользуется этим политическим оружием.
0:00:45 — монетизация международных отношений
0:01:21 — выбивание денег из истории
0:02:12 — контрибуции и репарации
0:04:41 — оккупационные репарации стран СНГ
0:07:31 — Россия имеет много активов за рубежом, которые отберут
0:09:30 — удары компенсационных требований по России
0:10:57 — требования по первой мировой
0:12:00 — Запад помнит каждую копейку
0:12:33 — удар Генуэзской конференции
0:13:30 — Гражданская война или интервенция?
0:14:37 — санкции против России — нарушение международного права
0:15:07 — чему надо учиться современному МИДу у большевиков?
0:16:53 — нулевой вариант Рапалльского договора
0:18:00 — Германия — дойная корова для Антанты
0:22:14 — санкции против СССР и России были неоднократно
0:23:09 — постоянная блокада СССР и России
0:24:58 — тюремный режим архивной работы
0:26:10 — подсчёт ущерба СССР от второй мировой войны
0:29:03 — щедрость Сталина
0:29:41 — как СССР взимал репарации с Германии
0:34:03 — нет мирного договора СССР и Германии
0:35:40 — почему Япония не платила репарации СССР?
0:36:25 — страшный экологический ущерб советских войск в Германии
0:38:14 — денежный счётчик для Германии
0:39:02 — как Пётр Первый купил Прибалтику
Валентин Катасонов
Россия в мире репараций
Видео http://poznavatelnoe.tv/katasonov_russia_reparation
Валентин Катасонов – доктор экономических наук, профессор, преподаватель МГИМО
Валентин Катасонов: Книга называется «Россия в мире репараций», это издательский дом «Кислород», это фактически третья книжка в сериале. Первая книжка была посвящена Генуэзской конференции. Вторая книжка была посвящена Бреттон-Вудской конференции. А поскольку и в первой и во второй книжке было очень много вопросов, связанных с репарациями, то потом родилась ещё и третья книжка, которая называется «Россия в мире репараций». Она родилась не только потому, что это некая выжимка из первых двух книжек, но и потому, что она писалась в то время, когда в мире происходили новые события, которые давали дополнительную пищу для размышления на тему репараций.
Современный мир двадцать первого века, это мир, когда происходит монетизация межгосударственных отношений. Я учился в институте международных отношений. Была такая дисциплина, такая специальность даже была — международные валютно-финансовые отношения, но это была только часть каких-то межгосударственных отношений. Сейчас речь идёт о том, что межгосударственные отношения как бы действительно тотально монетизируются. Это один момент.
И второй момент, я бы так сказал, — это коммерциализация истории, связанная с этим же. То есть, даже если мы изучаем какую-то историю, то сейчас уже невольно обращаешь внимание — какие в результате исторических событий возникали финансовые требования и обязательства сторон, имеется в виду на межгосударственном уровне. Почему такие мысли возникают? Да потому что, сегодня, в двадцать первом веке началась такая повальная эпидемия выставления одними государствами другим государствам разного рода компенсационных требований.
Мы привыкли, что в истории были объявления репараций, контрибуции, и подобные вещи. Обычно у нас всегда это ассоциировалось и ассоциируется с войнами: война кончается — победитель всегда устанавливает побеждённому какие-то требования. Часто они имеют финансовый, имущественный характер, и называются они контрибуциями. Если говорить проще, то контрибуция, это что-то типа дани, которую побеждённый выплачивает победителю.
— Девятнадцатый век — это ещё и эпоха контрибуций. Хотя контрибуции сопровождали большинство таких войн того времени, и более ранних веков.
— Двадцатый век — уже как-то слово «контрибуция» выходит из употребления, появляется слово «репарации». Грешным делом, когда я учился в институте, я как-то считал, что эти вещи синонимы — контрибуция и репарация.
На самом деле, конечно:
— контрибуция — это просто налог, это дань, которую победитель устанавливает,
— а репарация — это такая форма дани, которая создаёт некий такой имидж благородства со стороны того, кто эту дань накладывает. Он говорит, мол, это не просто дань, а это компенсация тех затрат, которые я понёс в войне с тобой. Примерно так. Репарация — возмещение.
К слову «репарация» близко такое понятие, как компенсационные платежи, компенсационные требования. Я бы так сказал, что, репарация и компенсационные требования — это не совсем синонимы, потому что, репарации мы привыкли использовать применительно к войнам, военные репарации, а компенсационные требования, компенсационные обязательства, они могут возникать и по другим причинам. Скажем, сегодня появляется такое понятие, как компенсационные требования в связи с колониальным угнетением, и колониальным ограблением одних стран другими. Такие своеобразные колониальные репарации. Иногда используют понятие экологические репарации. Это тоже фактически возмещение ущербов одним государством другому.
Могут быть какие-то другие поводы для репараций, например, так называемые оккупационные репарации. Это очень модное выражение, очень модный термин двадцать первого века, и это веяние пошло от наших ближайших соседей, государств, которые возникли на обломках Советского Союза. Это — постсоветские республики, прежде всего Прибалтика: это Латвия, Литва, Эстония, а за ней потянулась и Молдавия. Вот они это называют оккупационными репарациями, или компенсационные требования за так называемую советскую оккупацию. И это поставлено на достаточно серьёзную основу, потому что, в той же Литве был принят закон, который определяет это, как государственную функцию. Выделяется определённый штат, определённый бюджет на то, чтобы осуществлять подсчёт ущербов, которые Литва понесла, якобы, в результате нахождения в составе Советского Союза, и соответственно, там работают юристы, которые всё это должны оформить в виде каких-то требований. Но, повторяю, это не обычные какие-то иски, которые, скажем, одно юридическое лицо выставляет в адрес другого юридического лица — это сфера международного частного права, а это — сфера публичного права. Я вспоминаю то, что мне с лишним сорок пять лет назад преподавали основы международного права, это всё-таки международное публичное право.
На самом деле это, конечно, всё очень интересно. Я вижу, что нет ни одной книжки, которая была посвящена вопросам репараций, вот это меня очень удивило, потому что, для юристов международников это очень большой пласт вопросов, для экономистов сегодня это тоже. То, что я преподаю своим студентам, скажем, мы изучаем в курсе Международных финансов платёжные балансы. Одной из разновидностей этих таблиц под названием платёжные балансы является международная инвестиционная позиция.
— Платёжные балансы — это за период.
— Инвестиционные позиции — это некая картинка на момент времени, это грубо говоря, баланс требований обязательств страны.
Не надо думать, что это какой-то новый документ, это новый какой-то показатель, скажем чисто инвестиционные позиции страны. Это было и раньше, только это называлось долговая позиция страны, то есть, сколько страна должна, и сколько ей должны. Складываем и получаем этот показатель — это чистая долговая позиция. Сегодня это называется международной инвестиционной позицией. Соответственно, у России тоже есть такой показатель.
Вот в этой книжке я привожу фрагмент такого документа «Международные инвестиционные позиции России». Должен сказать, что у нас наши активы зарубежные намного превышают требования нерезидентов по отношению к России. Если объяснять попроще, то мы очень хорошо вложились за пределами. Иностранцы сюда тоже идут, но баланс всё-таки таков, что мы слишком выдвинулись вперёд.
Вот сейчас мы обсуждаем вопрос экономических санкций, экономической войны с Западом, но, безусловно, что мы как-то жили, не понимая, что рано, или поздно мы попадём в это положение. И конечно, если мы начнём, грубо говоря, обмениваться ударами, то, если предположим, мы уничтожим взаимно наши требования, наши обязательства, то мы будем лузерами.
Я сейчас не нашёл этой таблицы, но она есть на сайте Банка России, раздел Статистика, Статистика внешнего сектора, там вы найдёте эту картинку. Это опять-таки, официальная статистика, а есть ещё теневой вывод капитала. У нас на протяжении четверти века происходило бегство капитала, которое слабо отражалось, или вообще не учитывалось в платёжном балансе. И, соответственно, мы имеем за границей не один и три десятых триллиона долларов, как это следует из последних данных Банка России, а по моим оценкам, как минимум, в два раза больше, а может быть, и три триллиона долларов, то есть, это порядка двух валовых внутренних продуктов Российской Федерации.
То есть, я, о чём говорю, это как бы некое введение. Но есть ведь у любой страны, так называемые забалансовые статьи вот этого показателя международные инвестиционные позиции, а забалансовые статьи, это то, что юридически не оформлено. Вот эти самые требования, эти самые обязательства, так называемые компенсационные требования, компенсационные обязательства, и они как-то дремлющие позиции, но они из дремлющих могут превратиться в действующие, балансовые. Если, предположим, Латвия в прошлом году они там насчитали аж триста миллиардов евро требований к России за советскую оккупацию, то, соответственно, это очень серьёзно отразится на общей картине международной инвестиционной позиции Российской Федерации. Так что, это очень такая актуальная тема.
Я пытался как-то мидовским работникам популярно объяснять, что вы должны как-то заниматься этими вещами, но, на сегодняшний день, насколько я понимаю, ни в Минфине, ни в аппарате правительства, ни в Министерстве иностранных дел нет ни одного штатного сотрудника, который бы целенаправленно занимался этим вопросом. В то время, как повторяю, скажем, в той же Литве ещё в двухтысячном году был принят закон, который не только легализует эту деятельность, но и на это выделяются деньги, и там ведётся планомерная работа по подготовке требований даже не в отношении всего остального мира, а конкретно в отношении своего ближайшего соседа, Российской Федерации.
Но, безусловно, что всё-таки и не это сейчас самой главное. Самое главное, это, наверное, копнуть нашу историю, историю двадцатого века, и посмотреть, а что же там было в плане требований, которые мывыдвигали, и которые нам выдвигались. Должен сказать, что Россия почти никогда никому ничего не выдвигала, а вот ей выдвигали очень часто. И тут, конечно, вспоминается Первая мировая война. Вы знаете, что после революции семнадцатого года, я имею в виду не Февральская, а Октябрьская революция, одна из первых мер новой власти заключалась в том, что они отказались от долгов Царского правительства и Временного правительства. На тот момент с процентами набегало порядка восемнадцати с половиной миллиардов золотых рублей. Я не буду сейчас углубляться в детали, и объяснять, на каких основаниях происходил этот отказ, но такой отказ произошёл.
Вообще надо понимать, что всё-таки, даже изучая репарации, понимаешь, что у нас совершенно разный менталитет. Может пройти двести и триста лет, но Запад каждую копейку помнит. Вот по нашим взаимоотношениям России с Западом это прекрасно видно. Безусловно, что ни в восемнадцатом, ни в девятнадцатом, ни в последующие годы Запад не мог согласиться с этим декретом большевиков, это Январский декрет восемнадцатого года.
Я уже в этой аудитории не раз вспоминал такое событие, как Генуэзская конференция, но там всё-таки Запад нас вынудил заняться непривычным для нас занятием — выставлением встречных требований. Мы это сделали только для того, чтобы объяснить Западу популярно на их же языке, что мы погашать эти восемнадцать с половиной миллиардов золотом не собираемся. Наши встречные требования были — тридцать девять миллиардов золотом. Вот тогда мы начали немножко учиться этому искусству выставления компенсационных требований. Это были в основном компенсационные требования, связанные с ущербом, нанесённым Гражданской войной и интервенцией. Вернее, там было сказано только интервенцией.
Но когда Запад на Генуэзской конференции стал разбираться, они говорят: «А это-то при чём? Это же гражданская война».
Например, Колчак. Большевики, естественно, объясняли: «Какая же гражданская война? Ведь фактически за этими так называемыми силами стояли иностранные государства. Поэтому, давайте уж честно говорить — это была интервенция, которая осуществлялась руками граждан Российской империи».
Примерно так, как многое происходит сегодня на Украине, или даже на Ближнем и Среднем Востоке. Вот примерно так же всё происходило и в России, я уж не говорю про китайцев, венгров и прочих, которые вроде бы как тоже там воевали.
Ну и плюс к этому мы впервые проделали то, что потом другие стали проделывать — это мы посчитали ущерб от торгово-экономических санкций. В 22-ом году мы насчитали несколько миллиардов золотом — это ущерб от санкций, которые, как мы уже с вами обсуждали, Запад объявил нам уже в конце семнадцатого года, это торгово-экономическая, а потом и кредитная блокада. Кстати говоря, ведь уже у нас почти два года экономические санкции, и что-то я не слышал, чтобы кто-то вёл подсчёт ущербов от этих незаконных санкций со стороны Запада. Это так называемые односторонние санкции, которые являются грубейшим нарушением международного права, и устава Организации Объединённых Наций. А вот большевики это сделали. Понятно, делали на коленке, как умели.
Кстати говоря, я почему эту тему хорошо запомнил, потому что, мне преподавал курс Международных экономических отношений профессор Любимов Николай Николаевич, который тогда, в 22-ом году, был, наверное, самым молодым членом делегации советской на Генуэзской конференции в статусе советника, и возглавлял НИИ Наркомата финансов. Как он говорил, у него была только одна задача — подготовиться к Генуэзской конференции. Несколько месяцев они собирали материалы со всей страны, всё это сводили, считали. Понятно, что, может быть, это были очень грубые подсчёты, но, тем не менее, всё-таки они уже ехали не с пустыми руками. Есть чему поучиться нынешнему МИДу у тех дипломатов, как надо ехать на переговоры.
Там была очень интересная история. По крайней мере, то, что мы подготовили встречные требования, это самортизировало удар, это точно. Безусловно, что каждая сторона осталась при своих, то есть, никто не согласился: ни они не согласились, ни мы. Понимаете, ведь они говорили: «Мы не понимаем, а у нас-то ведь рыночные требования, вернее, требования по рыночным обязательствам». Запад — у него определенные стереотипы мышления. Они понимают только какие обязательства? Обязательства, которые выражены в так называемых финансовых инструментах — это либо долговые бумаги, либо это кредитные договора.
— «А вы нам приносите какие-то справки о нанесённых ущербах. Мы таких бумаг не видели».
Понимаете? Запад, он привык диктовать свои условия, заставлять других играть по своим правилам. Но мы должны учить их тоже нашим правилам, и должны учить их работать по нашим формам. Это так, by the way, как говорится.
Там на Генуэзской конференции были всё-таки интересные события, я имею в виду то, что мы сепаратно сумели договориться с немцами, сумели подписать Рапалльский договор. Рапалльский договор обычно вспоминают в связи с тем, что были установлены торгово-экономические отношения. Там был проведён такой хороший опыт, так называемый нулевой вариант по встречным требованиям. Что это означает? Это означает, что, да, конечно, мы должны были Германии. Царское правительство оно конечно, ещё до Первой мировой войны брало кредиты у Германии. Естественно, мы тоже могли что-то потенциально требовать от Германии.
Тут очень интересный момент. Ведь вопросы репараций обсуждались на Парижской мирной конференции. По-моему, девяносто процентов всех заседаний на Парижской мирной конференции, это был вопрос репараций. Всё остальное как-то было вторично. Территории ещё. Естественно, как вы сами помните, мы обсуждали эту тему. Страны Антанты практически выставили такие требования репарационные, которые по оценкам английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса в четыре раза превышали реальные возможности Германии. То есть, Антанта захотела сделать с Германией примерно, то же самое, что сегодня Запад хочет сделать с Украиной. То есть, понятно, что если корову не кормить, а только доить, то через некоторое время корова просто сдохнет. Вот с Германией примерно так и предполагали поступить.
Поскольку мы не участвовали в Парижской конференции, потенциально мы могли, конечно, участвовать, но не участвовали. Но как бы в наше отсутствие, исходя из некоего дипломатического политеса, записали, что Россия может претендовать на свою долю репараций. Хотя, кстати говоря, на Парижской мирной конференции сумма репараций была запредельная. Я не буду называть в тогдашних денежных единицах, я для понимания всегда перевожу в золотой эквивалент. Золотой эквивалент репарационных требований стран Антанты составлял сто тысяч тонн золота. Вы сами понимаете, официальные золотые резервы основных стран на начало Первой мировой войны составляли чуть больше двадцати тысяч тонн. А тут сто тысяч тонн взвалили на Германию. Французский маршал Фош (Foch) тогда сказал: «Сегодня мы присутствуем при подписании Парижского мирного договора. Это договор, который программирует. (он какие-то другие слова использовал) После этого договора пройдёт двадцать лет, и начнётся новая война». Он как в воду смотрел — так оно и произошло.
Мы, конечно, заняли совершенно правильную принципиальную позицию, мы назвали Парижскую конференцию грабительской. Ленин там не жалел никаких слов и эпитетов для описания всего этого мародёрства, которое творилось в Париже. А с немцами мы договорились по нулевому варианту. Они нам как бы прощают все наши долги по довоенным кредитам, а мы, соответственно, отказываемся от тех потенциальных репараций, которые могли бы нам причитаться, если бы мы подсоединились к парижскому мирному договору. А Запад, собственно и ждал этого момента, что мы всё-таки клюнем на это дело, и тогда бы нас там начали бы потихоньку раздевать. Но наши руководители достаточно хорошо понимали психологию наших, как сегодня говорят, партнёров, поэтому, мы не стали пользоваться этой привилегией, и не стали от Германии ничего требовать. Вот просто пример того, как можно договариваться.
В Генуе мы фактически достигли прорыва, в Рапалло. Я считаю, что не только с Германией, потому что, Генуя повлияла таким образом, что в 24-ом году Запад был вынужден с нами заключать дипломатические отношения. Все западные страны, за исключением Соединённых Штатов, они это сделали только в 1933-ем году. На самом деле меня интересует во всей этой истории один аспект — а куда делись вот эти наши требования? Куда делись требования примерно на сорок миллиардов золотых рублей? Ни в одной книжке я не сумел прочитать, куда они делись. Там где-то ещё вспоминали некоторое время. Последнее упоминание относится к 26-му году. Оказывается, было такое поручение, данное высшим нашим партийным государственным руководством, чтобы Госплан постоянно вёл инвентаризацию и оценку наших требований по тем самым требованиям, которые возникли в результате интервенции, и в результате экономической блокады. Процесс шёл непрерывно, потому что и в 23-ем, и в 24-ом, и в 25-ом годах экономическая блокада никуда не уходила.
Вообще создаётся такое интересное ощущение у нашей публики сегодня, что экономические санкции, которые нам в марте объявили это нечто новое. На самом деле ничего нового нет, потому что санкции были на протяжении всего двадцатого века, по крайней мере, с декабря 1917 года точно. Хотя отдельные случаи санкций были и раньше. Например, в 1909 году Соединённые Штаты в одностороннем порядке разорвали торговый договор с Российской Империей от 1832 года по инициативе американского банкира Якова Шиффа (Jacob Schiff). Якобы они были возмущены тем, что мы притесняем в Российской Империи евреев. Вот такая была история. Так что санкции были и до этого, но они не были перманентными. А с декабря 1917 года они стали перманентными, и на сегодняшний день даже, если Запад официально объявит, что экономических санкций нет, мы всё равно постоянно находимся в блокаде. Вот это надо всегда понимать. Блокада, она очень многообразна. Я начал перечитывать работу Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма», кстати, хорошая работа. Очень меня заинтересовал четвёртый признак – это международные картели.
Я вспомнил, что я ещё в советское время писал статью. Правда, эта статья не была принята многими журналами, потому что там слишком острые вещи были. О том, что Советский Союз находился на тот момент в кольце картельной блокады. Вот почему-то я до сих пор не могу понять, почему тема международных картелей была табуирована. Международные картели — это ведь такая плотная сеть соглашений, сговоров. Ведь как Советский Союз выходил на мировой рынок? Он выходил по узким коридорам. Если бы мы просто произвольно вышли бы на какую-нибудь компанию, скажем, чтобы продать нефть, нам компания могла сказать: «Нет, мы не хотим с вами торговать». Без всяких объяснений. То есть это картельный сговор. Нас выводили на нужную компанию, с которой нам только и было позволено торговать. Вот примерно так всё было устроено. То есть это была блокада. Я немножко отвлёкся, но это, наверное, тема нашего будущего разговора относительно экономической блокады, международных картелей. К сожалению, эта тема и сегодня очень слабо освещается в нашей литературе. Так что в 1926 году Госплан ещё считал вот эти самые ущербы, потом, к сожалению, я уже потерял нить, я уже не нашёл никаких источников.
А что касается работы в архивах, то, как показывает опыт, нынешние власти очень не любят, когда люди работают в архивах. Особенно когда они видят, что человек пытливый. Это особая тема, это личное. Короче говоря, если и попадаешь в архив, то над тобой стоит дядька или тётка, которые смотрят: «А вот, пожалуйста, у вас с тридцать второй страницы по тридцать пятую. А туда не заглядывать. Туда не надо заглядывать«. Я не шучу. Вот так приходится работать в архивах. Если ты конечно не получаешь какое-то одобрение с самой высшей инстанции. На самом деле я не пойму: кто работает в наших архивах и почему такой режим? Он тюремный режим по сути дела.
А тема интереснейшая, потому что это 39 миллиардов золотых рублей по тем временам. А по тем временам, если это перевести на золотой эквивалент, то это, наверное, двадцать пять тысяч тонн золота. Да, не меньше. Поэтому разбрасываться такими мелочами мы не имеем права. Но это один сюжет.
Другой, ещё более актуальный сюжет и лучше документированный, это — Вторая мировая война или для нас это Великая Отечественная война. Вторая мировая война или Великая Отечественная война — там мы уже были подготовлены. В 1942 году постановлением Президиума Верховного Совета СССР была создана комиссия по оценке ущербов народному хозяйству и населению. Я могу немножко ошибаться, она очень длинная формулировка, очень длинное название. Я её коротко называю — «Государственная комиссия по оценке ущербов«. Эта комиссия уже работала по определённым методикам, по определённым форматам. Всё это документировалось, всё это сводилось, всё это подсчитывалось. Поэтому когда кончилась Великая Отечественная война, она же Вторая мировая, то мы уже были вооружены всем необходимым. Мы были вооружены всем необходимым, и вот я вам просто дам сводные оценки или сводные данные — что же эта комиссия насчитала.
Комиссия считала прямые ущербы и косвенные ущербы.
— Прямой ущерб — это либо хищение имущества, либо это разрушение имущества, превращение его, будем так говорить, в объект, который нельзя использовать ни для чего. Так вот, прямой ущерб в рублях — шестьсот семьдесят девять миллиардов рублей. Заметьте, это довоенные рубли.
— Есть ещё понятие «косвенный ущерб». Косвенный ущерб – это не утраты имущества, не разрушение имущества, это просто нарушение функционирования народного хозяйства из-за вот таких экстремальных условий — тысяча восемьсот девяносто миллиардов рублей.
Итого получается — два триллиона пятьсот шестьдесят девять миллиардов рублей.
Комиссия посчитала, между прочим, и в иностранных эквивалентах.
Получилось, прямой – сто двадцать восемь миллиардов долларов.
А общий с учётом косвенных – триста пятьдесят семь миллиардов долларов. Заметьте, тогдашних миллиардов долларов. Поэтому цена вопроса очень высока.
Я признаюсь, я занимался достаточно долго вопросом нашего царского золота. Там, конечно, тоже очень крупные ставки. Но вот вопрос, связанный с репарациями по итогам Второй мировой войны, это вопрос крупнее. И этот вопрос обсуждался на Ялтинской конференции январь-февраль 1945 года, на Потсдамской конференции 1945 года, на других конференциях. Вот я вам назвал сумму ущерба — триста пятьдесят семь миллиардов. А Сталин на Ялтинской конференции, я сам читал протоколы Ялтинской конференции, он сказал: «Давайте мы не будем повторять ошибок Первой мировой войны. Давайте мы Германии назначим общий объём репараций в двадцать миллиардов долларов. И России десять миллиардов«. Я называю это «Сталинской щедростью». Представляете, как Запад душил Германию и как мы обошлись. Рузвельт не возражал. Рузвельту там особо было не на что претендовать. Вот такая просто раскладка.
А в этой книжке вы найдёте интересную историю, как собственно развивались события после девятого мая 1945 года. Уже, безусловно, чувствовалось охлаждение в отношениях между Советским Союзом и Западом. Затем началась Холодная война. Договорённости по репарациям были окончательно размыты. Первоначально ещё как-то мы договаривались. Вообще та схема Парижской мирной конференции, она уже никак не складывалась. Потому что там была такая схема — общий котёл. Страны потом между собой договаривались у кого, какая доля в этом общем котле. Вот по Первой мировой войне могу сказать, доля Франции в общем котле была пятьдесят два процента. Доля Англии была двадцать два процента. Здесь такая схема не сложилась, потому что не было общего котла. Сначала не было общего котла, а потом не было и общей Германии. Общая Германия, она была где-то в проекте, были оккупационные зоны, но всё-таки как-то говорили «Единая Германия» и «Оккупационные зоны на территории единой Германии». А в 1949 году не по нашей инициативе, не по инициативе Сталина, а по инициативе Запада произошёл раскол единой Германии на западную и восточную. Появилась Федеративная Республика Германии и Германская Демократическая Республика. Так что, если и говорить об этой Берлинской стене, то она была создана Западом.
Понимаете, я всегда возмущаюсь и очень скорблю по поводу того, как мы оправдываемся по поводу каких-то там стенок. Эти стенки всегда выдвигал Запад. Имейте в виду. И ни в коем случае не ловитесь на эти разговоры, что мы, мол, там что-то такое воздвигаем. Вон сейчас Европа тоже выстраивает стену — это их любимое занятие.
В 1953 году окончательно был закрыт вопрос по репарациям. Мы щедро просили Восточной Германии недоплаченные репарации. Кстати, там очень много интересного. Что касается западного сектора, Западной Германии, то там, собственно никакого учёта и не велось. Особого учёта репараций не было и у нас, но в Западе, там просто творилось полное мародёрство. Это особая интересная история, там ничего не учитывалось. Просто тащили всё, что не так лежит: золото тащили, валюту тащили, людей тащили, разработчиков всяких видов оружия, патенты, лицензию тащили. У нас всё-таки в этом смысле был учёт, была специально созданная правительственная комиссия, которая вела учёт репарационных поступлений.
Ещё очень важный момент. Западные союзники нам предлагали повторить ошибку Версальского мирного договора. А именно — взимать с побеждённого репарации валютой. Мы сразу сказали: «Не надо валютой. Давайте натурой«. Сначала мы брали натурой – это машины и оборудование. Но где-то уже к 1947 году демонтаж и поставки немецкого оборудования в Советский Союз прекратились. Прекратились по той простой причине, что это стало негативно отражаться на экономике Восточной Германии. И мы тогда перешли на другую схему – репарационные поставки продукции промышленных предприятий. И вот эта схема, она блестяще себя оправдала. Она позволила Восточной Германии развиваться быстрее, чем Западная Германия. Там есть соответствующие у меня цифры. И естественно мы тоже были в этом заинтересованы. Мы прекрасно понимали, что если будут денежные репарации, то это имеет много минусов. Я не буду сейчас эти минусы перечислять.
Вроде бы как вопросы по итогам Второй мировой войны были давным-давно закрыты. Я не буду приводить соответствующие международно-правовые документы. Главных-то документов нет. Главный документ какой?Мирный договор между Советским Союзом и Германией — такого договора нет. Мирный договор между Советским Союзом и Японией — такого договора нет. А есть всё какие-то документы, написанные на коленках. Вот об этих документах вы тоже можете здесь почитать. Поэтому считалось вроде бы как, что Хельсинский итоговый документ 1975 года, он как бы и закрывает все вопросы по итогам Второй мировой войны. Закрывает вопросы территориальных претензий. То есть в Хельсинки вроде все собрались и договорились, включая Соединённые Штаты, Канаду, что вот незыблемые европейские границы. Ну, если они незыблемые, тогда, извините, — а что вы сегодня творите-то в Европе? И соответственно вопрос репараций вообще не затрагивался.
Но по умолчанию считалось, что в 1953 году. Кстати, Западная Германия тоже последние свои репарационные платежи и поставки совершила где-то в 1952 или 1953 году. Вот давайте подведём черту под 1953 годом и всё, и не будем вспоминать былое. Но то, что мы уже при нашей жизни сегодня видим, мы видим, что идёт полная ревизия итогов Второй мировой войны. Я уж не говорю про ревизию на Дальнем Востоке — я имею в виду итоги войны с Японией. Ведь там тоже репарационный вопрос стоял очень остро, но он там не решён, он абсолютно не решён. Даже вы вот так напрягите свою память — сколько вы читали статей и материалов по репарациям, которые Япония выплачивала по итогам Второй мировой войны? Да ничего вы не найдёте, потому что там всё под свой контроль сразу взяли американцы. Взяли американцы и сказали: «Какие репарации, господа? Пожалейте Японию!» Но на самом-то деле за этими словами лукавыми, что скрывалось? Фактически, они хотели, чтобы Япония работала на Америку. Фактически не было репараций, но Япония фактически стала колонией Америки. А на каком основании колония Америки будет ещё кому-то платить какие-то репарации? Я вот так упрощаю картинку до предела.
В 1990 году, когда встал вопрос о воссоединении Германии, соответственно опять всплыл вопрос: «Значит, мы всё-таки считаем, что границы подвергаются ревизии?» Кстати, Англия, Франция были против объединения двух Германий. На этом настояли американцы. А Горбачёв пошёл на поводу у американцев. Я не говорю, что мы не должны были поддерживать проект «Единой Германии», но мы должны были очень грамотно этот вопрос обсуждать и оформлять юридически. Этого не было сделано. Вопрос о наших репарационных требованиях вообще нигде никак не поднимался. Более того, как вы сами знаете, мы оставили там громадный массив имущества. А я в то время занимался вопросами экологии и я прекрасно помню, как немцы нас обманули, обвели вокруг пальца. Хотя трудно это даже назвать обманом. Это я не знаю, даже какое слово употребить. Короче говоря, они сказали: «Советские войска нанесли такой экологический ущерб Германии, что вот это измеряется десятками миллиардов». Короче говоря, вышли чуть не на нулевой вариант. То есть мы за своё имущество в Восточной Германии получили копейки. Получили копейки, которые не могли даже компенсировать, будем так говорить, затраты на строительство жилья для военных, которые переместились куда-то, чуть ли не в степь. Вот такая была картинка, но это даже не хочется вспоминать, что творил Горбачёв вот в этом 1990 году.
Фактически мы как бы сдали всё без боя, в том числе и наши репарационные требования, в отличие от Запада. Вот как только произошло объединение Германии, Запад сразу включил счётчик Германии. Ведь они тогда в 1953 году выключили счётчик, на каком основании? Что, мол, нет единой Германии, с кого брать репарации? Будем ждать, когда будет единая Германия, вот тогда мы опять включим счётчик. Но имейте в виду, счётчик не по репарациям Второй мировой войны, счётчик по репарациям Первой мировой войны. Это я раскрываю тезис по поводу того, что у них прекрасная память. Для вашего сведения: последние деньги по репарациям Первой мировой войны Германия заплатила в 2010 году. Чтобы было понятно, что такое Запад — он свои копейки не упустит. А мы упускаем всё. Мы извиняемся перед Прибалтикой.
Я не знаю, то ли у нас в МИДе совсем люди, что ли, неграмотные? Они что не помнят Ништадтский мир, который был подписан Петром Первым, когда мы купили фактически всю Прибалтику у Швеции за два миллиона талеров. Мы прибалтов спасли, можно сказать, от геноцида шведского этим Ништадтским мирным договором 1721 года. Это наша собственность. Если вы оттуда вышли, будьте добры — с процентами всё верните. Я тоже пересчитал на золото, хотя уже не помню, но золото они должны нам вернуть по полной, понимаете?
Почему мы всё время находимся в состоянии защиты, обороны, оправдания? У нас должна быть наступательная позиция.
Спасибо за внимание.
Набор текста: Наталья Малыгина, Татьяна Самило
Редакция: Наталья Ризаева










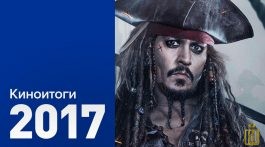



Впервые право на получение репараций обосновано в Версальском мирном договоре 1919 г. и др. договорах Версальской системы, где зафиксирована ответственность Германии и её союзников за убытки, понесённые гражданским населением стран Антанты вследствие войны. В действительности репарации в указанных договорах носили форму замаскированной контрибуции .