Михаил Аносович
Как живёт Австралия 2
Видео http://poznavatelnoe.tv/anosovich_australia_2
Собеседники:
Михаил Аносович
Артём Войтенков — Познавательное ТВ, http://poznavatelnoe.tv
Артём Войтенков: Вы долгое время жили в Австралии. Расскажите, пожалуйста, вкратце, чтобы зрители понимали, — как вы туда попали: по своей воле, или события так сложились, или ещё что-то. Сколько лет вы там прожили и примерно область вашей работы.
Михаил Аносович: Конечно. Я прожил в Австралии двадцать лет и до сих пор там живу на самом деле, семья там. Все остальные мои родственники находятся здесь — в Москве, в России. Я туда попал в 94-м году по независимой эмиграции. Реально это просто: миграция, которая позволяет человеку с определённым уровнем образования, знанием английского языка подать в Австралийское посольство. Они это рассматривают, и если вы им подходите по определённым специальностям (я в области информационных технологий), вам просто дают визу, и вам не нужно ни работы, ни каких-то друзей, либо других связей в этой стране. Вы просто приезжаете по независимой эмиграции, и вас там принимают. Такая статья до сих пор существует.
И в 94-м году для тех, кто помнит, была достаточно большая смута, я только что закончил Московский Авиационный институт, проработал где-то два года. На самом деле очень интересно. Я ехал, у меня было жгучее желание увидеть Запад. Это был мой первый выезд за границу. И было очень интересно посмотреть — смогу ли я. В общем-то, жизнь у меня была в меру комфортная в России. То есть, даже в начале девяностых, мне было бы грех жаловаться. Я уже тогда работал в банковской системе здесь и опять же, кто помнит, в те времена там было работать хорошо.
Артём Войтенков: По-моему, там всегда работать хорошо, как только у нас банки появились.
Михаил Аносович: Наверное. В общем, я так и попал. То есть, я по независимой эмиграции подал документы и меня приняли. Такая вот история. В то время многие даже не верили, думали, что какая-то существует в этом загвоздка, блат, ещё что-то. Но нет, это на самом деле очень просто было и есть. Так это всё и продолжается.
Потом ко мне приехала моя однокурсница через год, с которой мы сейчас муж и жена. Началась жизнь в Австралии с 94-го года. Следующий месяц — у меня юбилей жизни там, это двадцать лет. В Россию я приезжаю последние лет шесть-семь очень часто — каждый год. То есть, здесь семья, родители. Я работаю и сейчас. Я начал работать и до сих пор работаю в области информационных технологий: начал программистом в двадцать четыре года. А сейчас я в менеджменте межнациональной компании работаю начальником.
Артём Войтенков: То есть, вы знаете про что вы говорите, про Австралию. Вы там двадцать лет. Хорошо. С чего начнём?
Михаил Аносович: Начнём, наверное, со стоимости жизни, налогов. Австралия как таковая, является страной дорогой. То есть, это уровень жизни там достаточно высокий. Но если называть зарплаты, то надо помнить, что цена потребительской корзины, она в разы будет выше, чем потенциально в других странах. В Москве, наверное, нет, потому что, Москва город очень дорогой. А если взять российскую корзину, то в Австралии это намного дороже. Минимальная зарплата в Австралии является шестнадцать долларов и тридцать семь центов в час. Если переводить, в неделю это шестьсот двадцать два доллара в неделю, или в год это примерно тридцать две тысячи. Что является цифрой звучащей: тридцать две тысячи долларов в год минимальной зарплаты, это, в общем-то, звучит очень прилично.
Артём Войтенков: Мы как-то привыкли месяцами мерить. Шестьсот, это где-то две с половиной.
Михаил Аносович: Да, две семьсот в месяц, примерно. То есть, это минимальная зарплата. Налоги тоже высокие и сейчас, последние несколько лет, наверное, уже лет семь, они были уменьшены. До этого они были катастрофически высокими. Чтобы понимать опять, что значит высокие налоги, это от нуля до восемнадцати тысяч — налог ноль, вы ничего не платите.
Артём Войтенков: Восемнадцать тысяч в год.
Михаил Аносович: А следующая ступень от восемнадцати тысяч до тридцати семи тысяч — вы платите девятнадцать процентов. Первые восемнадцать — они всегда остаются безналоговыми.
С тридцати семи до восьмидесяти тысяч (следующая ступень) — вы начинаете платить тридцать два с половиной процента.
С восьмидесяти до ста восьмидесяти, то есть, это уже серьёзные достаточно деньги, — тридцать семь процентов.
От ста восьмидесяти и выше заработка — вы платите сорок пять.
Артём Войтенков: Основная часть населения в стране — куда относится?
Михаил Аносович: Она относится — до восьмидесяти тысяч она будет получать. Средняя зарплата в Австралии сейчас, я думаю, будет составлять около шестидесяти тысяч в год. Может быть шестьдесят пять.
Артём Войтенков: Итого, сколько они платят процентов налог?
Михаил Аносович: То есть, всё вместе, это будет, если шестьдесят пять, то меньше двадцати пяти, всё вместе они будут платить.
Артём Войтенков: А что значит всё вместе?
Михаил Аносович: То есть, с первых восемнадцати вы платите ноль. Со следующих двадцати с небольшим, вы платите девятнадцать.
Артём Войтенков: А, так оно прибавляется ещё?
Михаил Аносович: Да.
Артём Войтенков: Я думал это шкала.
Михаил Аносович: В том-то и дело. Многие говорят, что шкала прогрессивная, часто забывают, что люди, если получают двести тысяч, это не значит, что они платят на все деньги сорок пять процентов. Это значит, что они платят только на последние двадцать тысяч только сорок пять процентов. А до этого вот эти ступеньки складываются.
Артём Войтенков: Как интересно.
Михаил Аносович: Да. До этого было, когда я только приехал в Австралию в 94-м году, там начинался налог в пятьдесят процентов всё, что вы зарабатывали больше пятидесяти тысяч. То есть, это было серьёзное бремя. Потом правительство под давлением электората стало это исправлять.
Артём Войтенков: Понятно. Тогда, средний австралиец, сколько он процентов налога выплачивает?
Михаил Аносович: Я думаю — до тридцати. Всё вместе будет до тридцати, налога. Это мы сейчас говорим о налогах — налоговая шкала. Плюс полтора процента на медицину. То есть, это как бы отдельно считается.
Артём Войтенков: Типа медицинской страховки.
Михаил Аносович: Да. Но про медицину мы отдельно поговорим. Это сложный, но интересный момент.
Пособие по безработице — честно говоря, я сейчас не знаю точно цифры, но оно достаточно маленькое. Там есть социальная система достаточно сильная. Я так думаю, что будет около двухсот долларов, даже меньше, в неделю. Это порядка восемьсот долларов в месяц.
Артём Войтенков: А на эти деньги можно прожить?
Михаил Аносович: Можно, но с большим трудом.
Артём Войтенков: Одному?
Михаил Аносович: Одному, да.
Артём Войтенков: То есть, с семьёй уже…
Михаил Аносович: Нет, с семьёй на эти деньги прожить в большом городе — нет. Может быть, где-то, если вы уезжаете очень далеко, занимаетесь там огородами, выращиванием своих овощей, фруктов, и так далее — что возможно на самом деле. Но это как бы такой выбор стиля жизни. На эти деньги прожить невозможно. Но, не в плохом смысле слова, — просуществовать можно, то есть, с голоду вы не умрёте. Но, естественно, каких-то радостей каких-то обыденных этой цивилизации, которые мы привыкли видеть, этого не будет.
Для сравнения: пенсия в Австралии по возрасту, возрастная пенсия, она около четырехсот долларов (чуть меньше) в неделю. То есть, это тысяча шестьсот долларов.
Артём Войтенков: Мы говорим про американский доллар или про австралийский?
Михаил Аносович: Австралийский. Это тоже, кстати, важное замечание, Артём, спасибо. Потому что, австралийский доллар вообще очень сильно плавает. Это очень волатильная валюта. Причин к этому, наверное, много, но разницы для людей, проживающих в Австралии (для большинства), никакой нет. Потому что, если вы не путешествуете за границу, а таких меньшинство в Австралии кто путешествует, то вам разницы нет — сколько ваш доллар стоит по отношению к американскому, или к рублю, или к ещё к чему-либо другому.
Артём Войтенков: Разница есть для зарубежных покупателей.
Михаил Аносович: Да. Совершенно правильно. Но разница есть для фермеров, конечно: техника либо дорожает, или может дешеветь, соответственно. Но разговор, о чём я сегодня буду говорить, если затрагивать денежные единицы, — это австралийские доллары. На сегодняшний момент они очень близко рядом. За один американский доллар дают девяносто четыре, девяносто пять австралийских центов. То есть, они практически один к одному.
Про пенсию я сказал, что пенсия, это где-то тысяча шестьсот по возрасту. Это около двадцати тысяч в год, что является тоже деньгами весьма небольшими. Её надо ещё заслужить эту пенсию. То есть, у вас будут проверять, сколько у вас стоит дом, есть ли у вас какие-то активы другие. Если определённый уровень вы проходите, то вам пенсию просто не дают.
Артём Войтенков: То есть, если у вас большой дом, вы пенсию не получите. Или он стоит в хорошем месте, на дорогой земле.
Михаил Аносович: Да. Там достаточно сложная эта классификация. Я, честно говоря, абсолютно не уверен, если вы в этом доме живёте, дадут ли вам пенсию, или нет. Это такой тонкий вопрос. Просто мне до пенсии ещё далеко и я в этом вопросе ещё не разбирался, но я знаю, что существует тест и он это дело отсекает. Если уж мы заговорили о пенсиях, то сейчас только что объявили, буквально месяца три назад, что как у меня, мне сейчас сорок четыре года, моя пенсия будет уже не с шестидесяти пяти лет, а с семидесяти. То есть, мне надо работать до семидесяти. Но если говорить откровенно, то уже лет пятнадцать назад мы с женой пришли к выводу, видя, как меняется демографический состав в Австралии, понимая, как всё идёт, даже то, что государство объявляет, что у вас будет якобы пенсия с семидесяти, то мы на это не надеемся никак.
Артём Войтенков: То есть, не будет никакой пенсии вообще?
Михаил Аносович: Я думаю, что пенсии государственной, по возрасту, у нас, скорее всего не будет. Но что это значит? Это значит, что мы должны её заработать себе сами. Накопительная часть — она достаточно сильная составляющая. То есть, с зарплат сейчас отчисляют обязательно девять процентов в пенсионный фонд. И это ваш личный счёт. То есть, не куда-то в закрома государства, а у вас есть личный счёт, и у вас есть контроль над тем, куда вы это инвестируете.
Артём Войтенков: То есть, что значит, инвестируете? Вы можете свою пенсию куда-то вкладывать, что ли?
Михаил Аносович: Да. То есть, у вас есть вот этот счёт, и вы можете сказать, что я хочу вкладывать, например, в депозиты, или в агрессивно ценные бумаги и так далее.
Артём Войтенков: Вы сами вкладываете? Или вы просто даёте указание?
Михаил Аносович: Управляющему.
Артём Войтенков: Управляющему. А он уже решает?
Михаил Аносович: Да.
Артём Войтенков: А может такое случиться, что вложили, а оно прогорело. Что тогда?
Михаил Аносович: Не повезло.
Артём Войтенков: Ага, вот как.
Михаил Аносович: Мы это, кстати, затронем, потому что, это достаточно тоже интересно. Если говорить про такие статистические данные — Австралия является страной очень большой. Как ни странно, это не многие осознают. Может, потому что, на глобусе отдельно расположена, но это страна огромная.
Артём Войтенков: Это материк, но самый маленький.
Михаил Аносович: Самый маленький материк, но, с точки зрения охвата — она больше Канады. Она вмещает в себя всю Европу, исключая, естественно, российскую часть. Страна очень большая.
С точки зрения климата — у неё несколько климатических поясов. На севере (звучит смешно), когда мы в этом полушарии находимся, то есть, ближе к экватору, там очень тепло — там тропический климат, где фактически нет зимы. Я живу в Мельбурне. Там чётко выражены три сезона: там нет зимы со снегом, остальное всё там есть. То есть, там есть хорошее лето, там есть весна и осень, которые есть куски холодные, которые есть куски тёплые.
Артём Войтенков: А вот, уровень жизни? Уровень жизни, среднего австралийца, он сопоставим с жизнью среднего россиянина?
Михаил Аносович: Сейчас я думаю, да.
Артём Войтенков: Вы имеете в виду, москвича?
Михаил Аносович: Да. Но у меня данных про другие части…
Артём Войтенков: Нет, я даже не о данных. Потому что, можно сколько угодно сравнивать цифры. Есть по стоимости, есть налоги, есть проезд в транспорте — это всё будет потребительская корзина. Вы, живя в Австралии, смотря, как вы сами живёте, и как живут ваши знакомые, и, сравнивая это с жизнью ваших друзей, родственников и знакомых в Москве, вы видите какую-то сильную разницу?
Михаил Аносович: Нет. Сейчас я не вижу. Но, опять же, это вопрос совершенно закономерный. То есть, у меня друзья — они все из института, которые здесь остались. То есть, они работают профессионалами в определённых областях. Сейчас возраст (наши сороковые), все уже вышли на какие-то позиции, то есть, что-то достигли. В начале девяностых была очень сильная разница, очень сильная разница. До кризиса девяностых, конца девяностых, эта разница была серьёзной. Потом эта разница появилась опять. До глобального кризиса 2008-го года, когда мы сюда приезжали, нас очень часто спрашивали в наших компаниях – «когда вы возвращаетесь?» То есть, люди себя чувствовали настолько комфортно, может немножко эйфорическое чувство, что меня спрашивали, когда я возвращаюсь.
Если говорить вообще про эмиграцию вот сейчас, смотря назад двадцать лет, то два плюса у меня есть, я считаю, из-за того, что я переехал в своё время в Австралию.
— Это, у меня есть австралийский паспорт, по которому легче путешествовать. Я люблю путешествовать, мне это интересно. Мне не нужно виз в большое количество стран.
— И климат.
Остальное всё — можно спорить до хрипоты. Климат и, наверное, экология, я всё вместе беру. А остальное всё… Пробки здесь, пробки там: здесь они прилично хуже. Для этого надо пораньше вставать. Там всё является абсолютно таким же. Различия минимальные. Вот, это, как ни странно звучит, две вещи.
Артём Войтенков: В принципе, вы сейчас сравниваете Москву и Мельбурн, по большому счёту. А не всю Австралию и всю Россию.
Михаил Аносович: Всю Австралию и всю Россию, я думаю, что разница будет существовать. Потому что, насколько я знаю, если я на дачу выезжаю, девяносто километров от Москвы, видно, что люди живут серьёзно беднее. Но понимаете, всё дело в том, что если отъедете от Мельбурна, ну, не девяносто, Мельбурн огромный город, а скажем, двести километров, то разница тоже будет видна достаточно сильная. Живут ли здесь настолько же хуже, чем там, — наверное, разница до сих пор есть. Но, опять же, это в зависимости от того какие приоритеты, и что сравнивать. То есть, если покупательную способность: кто сколько может купить мяса или сыра, или позволить себе обучение, или медицинское лечение, — то есть, это какие-то категории, они будут, конечно, специфичны. Уровень жизни в целом, конечно, выше — это, безусловно. Здесь более интересный момент существует, который мы затронем дальше в беседе, которая больше связана с мышлением людей.
Мы затронем про толерантность, аборигенов, инвалиды.
Артём Войтенков: А аборигены относятся к категории инвалидов, что ли?
Михаил Аносович: Нет. Это как бы меньшинства. Есть сексуальные меньшинства. А вообще, Австралия — страна очень толерантная, как в основном, весь Запад. То есть, это политическая корректность, так называется. Особенно на работе очень часто надо следить, чтобы случайно человека не обидеть. И в зависимости от того, откуда этот человек и даже какой расы этот человек, это может вызвать приличный скандал. Российское общество намного менее толерантное по тем или иным причинам. То есть, это ни плохо, ни хорошо — это как есть. Австралийское, оно достаточно толерантное.
Например, с точки зрения инвалидов, одно из первых, сильно бросающееся в глаза, особенно в девяносто четвёртом году, когда приезжаешь из Москвы. То есть, у нас в Москве инвалидов не было в то время, насколько я помню. То есть, они были, но они были спрятаны. То есть, они просто жили у себя в той жизни, в которой они могли, в квартирах.
Артём Войтенков: Их и сейчас-то не видно.
Михаил Аносович: Да, их и сейчас нет тоже.
Артём Войтенков: Хотя везде сделаны пандусы, съезды.
Михаил Аносович: Там это бросается в глаза, потому что, ты вдруг видишь кучу инвалидов. По стандартам, к которым ты привык, думаешь –»что это? Парад, что ли?» Как-то это шокирует вначале. Потом ты понимаешь, что это политика, во-первых, государства, а во-вторых, это толерантность. И поэтому, если у вас что-то нехорошо со здоровьем, то вы абсолютно такой же член общества, как все остальные. То есть, переходы, светофоры, когда вы нажимаете такие кнопки, чтобы перейти, и у них у всех есть звуковой сигнал ещё. То есть, вы нажимаете, начинается такое постукивание.
Артём Войтенков: В Москве пищат.
Михаил Аносович: Да. Но это новинка в Москве.
Артём Войтенков: Это последние года два-три.
Михаил Аносович: Да. А там это идёт разговор с девяносто четвёртого. Я сначала даже не знал, что кнопки надо было нажимать. Стоишь, и ждёшь сигнала светофора. Существует программа, когда их нанимают на работу. Во всех шопинг-центрах существует специальная парковка, на которую люди не встают. То есть, не встают, не потому что, штрафуют, хотя штрафы очень высокие, а потому что, есть сознание, что это не для меня, у меня две ноги и две руки и я могу запарковаться подальше. Если, кстати, встают, то это вызывает такое негодование. То есть, при всей толерантности, люди могут даже сказать, что для Австралии очень необычно, что кто-то подошёл и сказал.
С аборигенами — это сложная тема, она большая, она болезненная для австралийцев. Некоторые активисты из австралийского общества пытаются насадить вину за то, как с аборигенами обходились предыдущие поколения. Это немножко (в моих глазах) происходит борьба между людьми, которые говорят: «Слушайте, мы понимаем, но за что нам-то извиняться? Мы сочувствуем, ну да, как бы.»
Артём Войтенков: За то, что истребляли их.
Михаил Аносович: Да, было, не хорошо. Чтобы было понятно, о чём идёт речь, в Австралии существовала, это называлосьWhite Australia, то есть «Белая Австралия». Она была начата где-то вначале двадцатого века, но официально закончилась в 73-м году. Что это такое? Это официальное строительство государства. Правительство объявляло, что мы принимаем только белую расу из определённых европейских государств, в основном из Англии. То есть, это был вот такой расизм открытый. Реально это заканчивалось где-то в 65-м, то есть, в середине шестидесятых. Так официально считается, потому что, в 75-м, по моему, году был принят закон против дискриминации. То есть, это как бы прекратилось, это была бела политика, «Белая Австралия».
То есть, при всей толерантности, общество, нельзя сказать, что не расистское. Там это есть, элементы расизма, но они как бы очень сильно размыты. Потому что, очень много людей въехали в эту страну и сейчас там столько рас и национальностей сейчас, и языков, и акцентов. Но если кто-то и хочет проявить, что против к какой либо нации, или национальности, — это практически невозможно. Речь идёт о том, что пятьдесят или шестьдесят лет назад это всё ещё было. То есть, не так очень далеко это было отменено.
Про аборигенов ещё что интересно, что с точки зрения нашей психологии, российской, там много историй, которые приводят в недоумение. Скажем, в самом начале особенно, когда меряешь больше российским стандартом, чем австралийским. Слышишь истории, что аборигены судятся за то, чтобы им выплатили какую-то компенсацию, потому что в городе, недалеко от поселения, где они живут, был открыт винный магазин, и они поголовно стали спиваться.
Артём Войтенков: Да. Вот ещё вам бы компенсацию за это.
Михаил Аносович: Да. То есть, вот так вот. Здравый смысл: ну не пей, в чём, собственно говоря, проблема-то?
Артём Войтенков: И деньги будут.
Михаил Аносович: Да. И деньги будут, и здоровье будет, и так дальше. Это очень сложно, и на самом деле, у меня на это мнение изменилось, потому что, у них, вроде бы склонность. Я не знаю: она уже воспитана годами к алкоголизму, или же это просто непонимание из-за того, что малообразованность. Там проблема алкоголизма, болезней всяких, уровень жизни у них, продолжительность жизни у них, по-моему, на двадцать лет меньше, чем у остальных австралийцев. Это сложный вопрос. Там тяжбы происходят, и земельные, и всё так не просто.
Из громких дел, которые сейчас недавно обсуждались (я думаю, что будет интересно слушателям) — была полоса, я сейчас точно не помню, шестидесятые, пятидесятые года, может быть, восьмидесятые, то есть где-то после Второй Мировой войны, когда австралийское правительство сказало: «Послушайте, мы хотим аборигенов адаптировать в австралийское общество, чтобы они жили как мы«. Они живут естественно, совершенно другим строем, другим укладом. Люди живут в тёплом климате, поэтому, даже если им дома дают, то они могут спать и под деревьями, в своих хатках. Не все, но вот так. У них свои обычаи, свой язык. Была программа: у неблагополучных семей забирали детей. Это делали насильственно.
Артём Войтенков: Это делают до сих пор?
Михаил Аносович: Нет. Сейчас этого уже, конечно, не делается. Это из прошлого. Я эту пословицу очень не люблю, но здесь она описывает — Когда лес рубят, щепки летят. Отбор происходил действительно, в очень проблемных семьях, где сексуальное насилие, пьянство, никакого обучения, то есть, за детьми не смотрели: брали, переводили в белые семьи, и они там воспитывались. Но это очень сложная тема, потому что там попадало иногда, когда недобросовестные, либо, слишком добросовестные чиновники отбирали детей и в тех семьях, которые может и не были слишком проблемными. Вот такая тема.
Но что в этом интересно, что тех детей, которых отобрали, воспитали белые, из них получилось достаточно много юристов. Их выучили, как правило, они попадали в богатые семьи, учились в университете потом. Так вот, сейчас некоторые их них начинают работать на аборигенские вот эти кланы, и помогать им отсуживать компенсации, и, с легальной точки зрения являются помощниками для того, чтобы делать какие-то судебные тяжбы. Это может звучать как бы осуждающе, но для меня в то время это было маразматично. Сейчас это не однозначно всё. Всё это очень многогранно, скажем так. Как бы такая вот интересная проблема существует.
Сейчас аборигенам очень-очень много где открыта дорога. То есть, если вы являетесь аборигеном, то у вас бесплатное образование, у вас льготы по многим категориям. И был скандал, по-моему, в девяностых, если я не ошибаюсь: белый австралийский писатель начал писать под псевдонимом аборигенским, не помню, то ли мужчина, то ли женщина, и он представлялся, что он был аборигеном. И его проза выигрывала большое количество призов. И когда раскрылось, что он является белым, то её (по-моему, она всё-таки была женщиной) заклеймили ужасным клеймом, сказали, что вообще вся эта проза была ничего не стоящая и так далее. То есть, вот такой, якобы анекдотичный случай, но вот он показывает, как баланс сместился очень сильно в другую сторону.
Артём Войтенков: Вы сказали, что если абориген, то образование бесплатное, а если белый?
Михаил Аносович: Если белый, то, как правило, платишь. Ты начинаешь платить со второй части школы, это старшая школа: с седьмого класса по двенадцатый, как правило, платишь. И в университете ты платишь тоже — большие очень деньги.
Артём Войтенков: Забавно получается: расизм, только в другую сторону уже повёрнут.
Михаил Аносович: Да. Как я вначале уже сказал- сейчас пытаются насадить вот это чувство вины, и это является, как бы, заглаживанием. Но, всё дело в том, что количество аборигенов достаточно небольшое. И вот эти льготы, которые предоставляются… Там много таких историй, это не только про этого писателя. Там, мама, которая по каким-то причинам, у неё было двое своих детей, или трое, она усыновила или удочерила аборигенского ребёнка. И вот она тогда писала статью в газету и говорила: «Ну, хорошо, вот они у меня все ходят в школу: я за троих плачу, а за одного нет, за одежду, за книжки. Как бы я их мама». Это расизм перевёрнутый. Но это есть.
Теперь к сексуальным меньшинствам. Мы ещё стоим на теме толерантности — здесь кардинальное отличие от восприятия в России и от того, что происходит там. Важно заметить, что здесь, наверное, этот разговор стоит начинать с того, что если в обществе преобладает вера в то, что сексуальные меньшинства это выбор — выбор, или значит, извращение, это как бы один взгляд, и он понятен. В России он мне понятен. В Австралии преобладает мнение, что это не выбор человека, а вот он таким родился. И соответственно, взгляды начинают быть достаточно полярные. То есть, если вы верите, что этого человека можно вылечить, то значит, его пытаются лечить. А если вы верите, что он таким родился, то его не от чего лечить, он просто такой, какой есть.
Артём Войтенков: Однако, австралийцев перевоспитывали коренных.
Михаил Аносович: Ну, да. Со свободой сексуальных меньшинств — это тоже совсем недавно приобретённая свобода. Ну да, то есть, парад Mardi Gras всегда проходит в Сиднее много лет. Но это как бы больше карнавал. Я ездил, смотрел. Я допускал такую смешную ошибку: когда я начал работать в Австралии, я взял отпуск и они меня спрашивают:
— «Куда ты едешь?»
— «Да я еду в Сидней на Mardi Gras»
Челюсть открывается.
— «Со своей женой»
Они говорят: «Ах, ну хорошо»
Воинствующего такого насаживания вот этой идеи я там не видел, и, в общем-то, я бы даже сказал, её там не любят. То есть, если кто-то начинает сильно, по-русски сказать, качать права по этому поводу, то это вызывает недовольство. А, в общем и целом, люди очень толерантны. То есть, если вы открыто являетесь сексуальным меньшинством, на работе это скрывать не надо. То есть, вас притеснять сильно не будут.
Артём Войтенков: Да. Вот ваше – сильно…
Михаил Аносович: Я специально сделал акцент, потому что, из того, что я наблюдал в офисах, — всё равно подшучивают.
Артём Войтенков: Но это не притеснение. Есть шутки, есть притеснения — это разные вещи.
Михаил Аносович: Понимаете, Артём, обычно это подшучивание идёт за глаза. Естественно, человеку об этом не говорят, но это есть. Последние развития в этом: там сильно борьба шла за однополые браки, чтобы разрешили расписываться однополым бракам, но это не прошло. То есть, были определённые политики, которые толкали это, но это не прошло никуда. И обществу, как я вижу, это, скорее всего, безразлично. Люди просто говорят: «Надоело, давайте поговорим о чём-то другом. Вообще-то неправильно, но, отстаньте уже«. Вот такой взгляд на вещи. Но, в общем и целом, конечно, если кто-то хочет пройтись по площади, покричать за свои права и надеть ленточку с радугой и что-то там требовать, то люди относятся к этому больше с улыбкой, «ну, хорошо«. Вот такая ситуация. Но толерантность намного выше. Я знаю, как к этому относятся в России, недавно были буквально какие-то события, закон даже прошёл про нераспространение, или ещё что-то.
Артём Войтенков: Среди несовершеннолетних. Именно среди несовершеннолетних. А вся Европа и весь Запад кричит, что ай, какой ужас.
Михаил Аносович: На самом деле, в Австралии распространения, как такового я не видел в школах, хотя сексуальное обучение там поставлено на достаточно широкую ногу, и дети получают понятие об этом рано: пятый класс, это около десяти лет.
Артём Войтенков: Как-то рановато.
Михаил Аносович: По российским меркам, наверное, да. Но, это рассказывается с точки зрения биологии. То сеть, репродуктивные органы и так дальше рассказывают.
Дальше мы практически плавно подошли к обучению в Австралии. Там учатся 12 лет в школе, начинается с подготовительного класса до 12-го. Начальная школа до 6-го класса, а потом с 7-го по 12-ый начинается старшая школа.
Артём Войтенков: А во сколько лет в школу идут?
Михаил Аносович: В подготовительную идут с пяти лет и её заканчивают в 18.
Артём Войтенков: А детский сад есть?
Михаил Аносович: Есть, но они там разнятся по категориям. Есть детский сад, который только предназначен для подготовки к школе, то есть это порядка двух раз в неделю по три часа. А есть детский сад, который предназначен для того, что ребёнка сдать и уйти на работу.
Артём Войтенков: Я так понимаю, ваши дети, они же там родились?
Михаил Аносович: Да, там родились обе.
Артём Войтенков: То есть вы это всё проходили — все эти детские сады вот эти местные?
Михаил Аносович: Да. Они у нас ходили и в детский сад достаточно короткое время для того, чтобы жена могла работать, но потом они у нас в основном ходили чисто в детский сад, который предназначен для подготовки к походу в школу (жена потом перестала работать). Это мы затронём, это тоже очень интересная история есть.
Разница в начальной школе в обучении очень серьёзная с точки зрения восприятия российского мышления. Это очень частая тема разговоров мигрантов, как всё неправильно и плохо, и вообще обучение здесь состоит не так. Но если посмотреть на это дело серьёзно, то в России до сих пор основная, насколько я понимаю, система, она является той, которая была заимствована из Германии. То есть дети сидят за партами, все должны слушать учителя, то есть такая академически направленная. Если ребёнку не сидится по тем или иным причинам, и он хочет поваляться, то это не воспринимается никак: это родителей в школу (я не знаю, дневники сейчас или нет), в дневник запись.
Артём Войтенков: Есть, конечно.
Михаил Аносович: Ну, вот.
Начальная школа там это очень-очень расслабленная среда. Очень часто уроки проходят, сидя на полу в кружочке. То есть сидит человек в середине и вокруг дети сидят. Это может быть чтение книги, это может быть игра на музыкальном инструменте, это могут быть какие-то математические игры. То есть, в общем-то, очень расслабленное это всё.
Вначале это немножко приводит в шок, потому что это всё видишь и думаешь: «И как из этого может что-то получиться?» Но это приводит на самом деле к нескольким позитивным вещам, ну и, естественно, есть и негативное. Негативная на самом деле одна: если человек может учиться, то, сидя за партой и слушая учителя, этот процесс происходит более эффективно и быстрее.
А позитивные вещи из начальной школы. Мы говорим о самых первых классах, то есть подготовительный, первый и, может, чуть-чуть второго.
Артём Войтенков: Там есть такое понятие как подготовительный класс — нулевой, да?
Михаил Аносович: Да, подготовительный. Позитивные вещи, то есть плюсы какие:
— Во-первых, дети бегут в школу. Такого, чтобы «мама» или «папа, не хочу идти в школу», я не видел или бывает очень редко.
Артём Войтенков: Удивительно.
Михаил Аносович: Да, это действительно удивительно, потому что не напряжно в начале и интересно.
— Второе — то, что происходит достаточно разногранное открытие мира, то есть на музыкальном инструменте поиграли, ещё что-то, даже иногда дают поспать. Если там, особенно в подготовительном классе, сначала учатся по полтора-два часа, потом есть часть урока, где они, по-моему, полчаса валяются. Даже можно, если ты устал, подремать.
Артём Войтенков: Но это же получается детский сад по-нашему? Пять-шесть лет, первые два класса — это детский сад.
Михаил Аносович: Получается, что так. Да, у нас в школу идут с семи.
Артём Войтенков: Сейчас 6-7.
Михаил Аносович: Да, 6-7. Потом это начинает превращаться в более знакомый процесс для нас. Дальше уже здесь зависит от района, от того, какие ученики в классе.
Из такого, сильно отличающегося, говоря об инвалидах, там в той школе, где дочери ходили вначале, где мы жили, там существовала программа: обязательно должен был быть ребёнок инвалид в классе.
Артём Войтенков: Ничего себе!
Михаил Аносович: Да.
Артём Войтенков: А если его нет? Вот нет.
Михаил Аносович: Ну, нет… Без этого это считается плохо.
Артём Войтенков: Надо найти…
Михаил Аносович: Да. Надо найти, чтобы был. Это поощряется. Это делалось для того, чтобы инвалид чувствовал, что он находится в нормальной среде. Иногда попадались дети настолько больные, что, в общем-то, там было не о чем разговаривать. То есть к ним был приставлен специальный учитель, человек приходил и человек сидел. Но это серьёзно умственно больные дети. Но это делалось также для детей, которые были здоровы, чтобы они видели, что, да, это есть, вот, он сидит, но он другой.
Артём Войтенков: Приучают.
Михаил Аносович: Да, приучают, с этим люди вырастают. И дальше это продолжается. Это достаточно всё расслаблено. Там идёт по экспоненциальной на самом деле. То есть тяжесть и интенсивность учёбы, она продолжается по экспоненциальной к концу. То есть последние классы школы, насколько я понимаю, они сравнимы с нашим первым курсом университета, как это было раньше.
Артём Войтенков: Если 12 лет учиться.
Михаил Аносович: Да. То есть люди заканчивают в 18. Там проходят уже по математике производные, то есть серьёзные какие-то затрагивают темы.
С точки зрения образования, что обычно приводит в шок тоже: там нет физики, химии, биологии в начале. Там есть предмет, называющийся «наука».
Артём Войтенков: Science.
Михаил Аносович: Да, science.
Артём Войтенков: Да, это я уже слышал неоднократно из разных стран.
Михаил Аносович: И это приводит тоже вначале: «Как такое может быть?!» А на самом деле нормально, это не трагедия — в зависимости, конечно, от учителя, от школы. К чему это приводит? К тому, что пытаются дать… базу — будет слишком громко, наверное, сказано. Пытаются дать…
Артём Войтенков: Знакомство, наверное.
Михаил Аносович: Знакомство: «А вообще это о чём?» То есть химия с физикой, с математикой, с биологией — как это вообще всё вместе работает, о мире.
Артём Войтенков: Так оно потом разделяется?
Михаил Аносович: Да. Потом разделяется на блоки. То есть в конце это уже абсолютно разные вещи, то есть, потом это уже совершенно обыкновенные становятся.
Там существует очень сильная система частных и государственных школ. Вопрос этот и среди мигрантов, и среди населения, он такой не лёгкий, потому что частное обучение стоит очень-очень дорого. Я читал, там независимые журналисты пытались высказать своё мнение, что практически это делается для того, чтобы:
— Чтобы все были умными — не нужно.
— Нужно, чтобы были немножко и необразованной массой.
Артём Войтенков: Правильно: управленцы и управляемые.
Михаил Аносович: Да, абсолютно верно.
Артём Войтенков: Только, наверное, они так не называются.
Михаил Аносович: Не называются, нет. Но такое происходит отсечение. В госшколах, как правило, учатся до 6-го класса, то есть начальная школа нормальная. А потом происходит абсолютно качественная смена ситуации.
— Государственные школы за исключением буквально можно по пальцам перечислить, где они в городе, где вокруг есть зона, из которой принимают, в которой недвижимость стоит примерно настолько дороже, сколько вы будете платить за частную школу.
— А остальные все школы являются серьёзно плохими можно сказать. Опять же, можно спорить: плохими как? С какой точки зрения? Если вы хотите получить академическое образование, если вы хотите работать, скажем, водопроводчиком или ещё кем-то — это совершенно нормально. Стоит заметить, что работа водопроводчиком в Австралии не является плохой. Люди зарабатывают очень серьёзные деньги, это прекрасная профессия, так же, как и строитель, укладчик кирпича.
Артём Войтенков: Правильно, когда у тебя трубу прорвёт, ты вспомнишь.
Михаил Аносович: Да, абсолютно. То есть электрики, это всё люди, которые работают руками. Естественно, у них должны быть какие-то профессиональные знания. Они с точки зрения заработка не сильно уступают тем же программистам и так далее. Такое интересное построение общества. Можно спорить: хорошо это там или плохо. Есть плюсы и минусы.
Если вы хотите ребёнку дать хорошее образование, то требуется либо репетиторство достаточно сильное, либо переход в частную систему, которая дорогая. Но это наше мнение. Мы сильно по этому вопросу с женой думали, потому что это достаточно серьёзный шаг, и решили, что, да, пойдём этим путём, почему я и начал копить.
Артём Войтенков: То есть вы отдали в частную школу.
Михаил Аносович: Да, мы отдали детей в частную школу. Раньше было очень важно — какую школу вы закончили. То есть если вы закончили определённую школу, там было легче найти работу, связи, знакомые и так далее. Сейчас это сильно ушло. Наверное, что-то из этого осталось ещё, но это перестало быть настолько важным.
Артём Войтенков: А работодатель учитывает, какую школу вы закончили — частную или государственную?
Михаил Аносович: Да. Я думаю, что да. Потому что, как правило, это показывает определённую принадлежность: где вы находитесь в социальной классовой лестнице. В общем-то, если серьёзно говорить, то это развивает классовую систему, когда вот это расслоение начинается. Если у меня есть возможность, а у вас нет, то это начинается. Школы кучкуются: ученики, они же вместе, друзья и всё прочее. Это и есть порождение класса.
Артём Войтенков: Вы не первый, кто это рассказываете. То же самое и про другие страны. Мы видим, что происходит в США, в Европе — то же самое. То есть образование начинает резко разделять: образование для всех и образование для, скажем, управленцев. Причём, почему-то, с одной стороны это происходит под слова о всеобщем равенстве, и равенстве возможностей и прочего, толерантности («мы ко всем хорошо относимся»), а с другой стороны — такое разделение идёт.
Михаил Аносович: Вы абсолютно правильно описали это. Если пойти жаловаться, сказать: «Мне не дают учиться», то вам скажут…
Артём Войтенков: «Я хочу учиться в хорошей школе»
Михаил Аносович: Да, «Я хочу учиться в хорошей школе», то вам скажут: «Ну, вот, государственная есть, а «хорошая» — понятие уже растяжимое. Вам дают учиться?»
— «Да. Даже бесплатно».
— «Ходите, учитесь на здоровье».
А если вы хотите в хорошей школе учиться, то это уже разговор, по старым меркам, что называется, «кухонный разговор»: «Да, мы знаем, что это бесплатное, но не очень хорошее».
Здесь примеры есть разные, потому что не обязательно ходить в частную школу для того, чтобы нормально учиться. Но это, естественно, сильно помогает. Существуют примеры, когда люди приходят в школу и вылезают «алмазы» — «алмазы» такие и из государственных школ.
Про университеты там, как и во всё мире: они платные. К тому моменту, как дети отучились в школах, как правило, родители уже платить за детей не хотят, за университет, они говорят: «Нет, уже сам (сама)». Там существует система стипендий. Если ты хорошо учишься, то можно попасть, по российским меркам, на бюджет. Но в основном, ты платишь и дорого. Люди, как правило, уходят в 80 тысяч долга, может быть и 100 тысяч долга после университета. То есть это много. Гарантии работы никакой нет. Но как бы щадящая такая вещь — это то, что ты должен выплачивать эти деньги:
— Только найдя работу по специальности с любой зарплатой.
— Либо, если вы найдёте работу любую, но после определённой черты, если у вас зарплата превышает что-то, вам скажут: «Ну, слушай, хоть и не по специальности, но возвращай«.
Артём Войтенков: А если человек просто нашёл работу не по специальности и это не превышает порог, он так и работает и не платит за обучение?
Михаил Аносович: Да. На вас так и висит этот долг — не получилось и всё.
Артём Войтенков: Так можно и всю жизнь проработать.
Михаил Аносович: Да, можно. Это будет тянуться годами. То есть вам не придётся ничего отдавать, долг на вас висит, а что там в конце происходит — это вопрос интересный. Можно даже будет проверить мне.
Другой интересный вопрос — про важность образования. Например, то, что там можно пойти работать водопроводчиком, электриком, строителем, и это всё будет приносить доход. А мигранты, причём это не только русские, это китайцы, индусы, вьетнамцы, кто угодно, — приезжая, как правило, профессионалами, у них очень сильный культ вот этого образования. То есть это очень обычно, когда дети мигрантов учатся намного лучше, чем все остальные — это очень обычно.
В государственных школах, которых существуют единицы, куда отбирают по экзаменам, 95% детей — это дети мигрантов.
Артём Войтенков: Им есть, куда стремиться.
Михаил Аносович: Да. Особенно у китайцев это очень сильно развито. Китайцы муштруют своих детей очень сильно.
Артём Войтенков: Конкуренция внутренняя.
Михаил Аносович: Абсолютно. Сильная конкуренция. И к индусам это относится тоже. Русские, наверное, следуют за ними плотненько. Вот эта система даёт результаты.
И второе, что стоит заметить: хотите вы или не хотите — иммиграция производит такой, естественный отбор. То есть если взять IQ среднестатистическое приехавшего иммигранта из России, то оно априори будет выше, чем среднестатистическое в России. Почему? Потому что люди, которые выезжают, они выезжают за чем-то.
Артём Войтенков: Понятно. Едет тот, кто надеется там работу получить. Ямы копать и здесь можно.
Михаил Аносович Абсолютно. Ну и потом, тех, кто только ямы может копать, просто не пускают, такая система происходит — фильтрация. К чему это приводит? Например, меня там часто спрашивают:
— «У тебя один знакомый — доктор наук по физике, другой — музыкант какой-то. Что, русские все такие умные такие?»
Говорю: «Нет, но кто сюда приезжает, в основном, да».
Моя волна эмигрантская, она произошла в начале 90-ых, когда время было очень-очень смутное и когда, к большому сожалению, страна выплёскивала свои мозги куда только могла. То есть людей — куча, которая живёт в разных концах мира, которая уехала в 90-ые просто из-за того, что здесь не видели будущего. Сейчас тоже идёт, но сейчас совершенно другие причины.
Теперь мы переходим к достаточно интересному, наверное, ключевому вопросу. Я надеюсь, что слушателям будет интересно. За свои 20 лет я этот путь прошёл и вижу, что сейчас происходит.
Про индивидуализм и про то, что никто никому ничего не должен. Это мышление «индивидуализм» — позиция общества. То есть фундаментальная разница в, я не знаю, англосаксонском, австралийском. Австралийцы — это всё равно выходцы в большинстве своём англосаксонцы.
Артём Войтенков: Там англосаксонцы. До сих пор страна-содружество, которой управляет королева Великобритании.
Михаил Аносович: Да, абсолютно. И при том, королева… У них, кстати, было несколько референдумов, когда пытались это изменить — и люди не хотят.
Артём Войтенков: Даже так.
Михаил Аносович: Да. Люди говорят: «Зачем менять? Всё работает». Консерватизм сильный.
Чем фундаментально отличается мышление: там никто никому ничего не должен, и от государства никто ничего не хочет. То есть люди полностью надеются на себя. Это чуточку меняется. Да, там есть социальная поддержка, да, там есть определённые хорошие медицинские вещи, но, в общем и целом, таких фраз, как «плохая дорога», «вот они не построили». «Они» или «государство» («оно)» — как такового таких мыслей там абсолютно минимум.
Артём Войтенков: Но дорогие-то есть плохие?
Михаил Аносович: Есть, дорогие есть плохие. Но если дорогие плохие, то люди по этому поводу что-то делают. То есть, если это дорога, которую ты можешь починить сам, насыпав гравий, если она в парке, то люди это делают.
Артём Войтенков: А если это кусок дороги автомобильной, ты его сам не починишь.
Михаил Аносович: Не починишь. Тогда люди будут организовывать группу инициативную. Начнётся это, скорее всего, с похода к местному депутату, представителю и так далее. То есть они будут требовать: «Ребята, выбраны – давайте, это наши деньги«.
Но основное различие — это «если не я, то никто ни обо мне, ни о том, что мне нужно, не позаботится«. Это очень-очень заинтегрировано, прошито в мозгу австралийцев и, наверное, других западных людей, насколько я видел. То есть разговоров о том, что кто-то что-то кому-то должен, просто нет как само по себе.
Это было прописано прекрасно французским философом Гюставом Лебоном. У него есть несколько вещей, где он прописывает разницу между (в те времена он называл это) славянским подходом и англосаксонским. То есть он делил категориями большими. Описано достаточно понятно. Вот эта надежда только на себя, а не на государство. Государство лишь бы не мешало — остальное сделаем. А не — «я бы сделал, да должно государство«.
Артём Войтенков: Я понимаю.
Михаил Аносович: Понимаете, о чём речь.
Артём Войтенков: Я понимаю. Наши обычно, если что-то сделано не так, все говорят: «Всё плохо, никому ничего не надо». И никто ничего не делает. Все только трепятся языком обычно.
Михаил Аносович: Правильно. Я последние несколько лет работаю в менеджменте. На самом деле очень хорошо описано. Там есть круг вещей, на которые вы можете оказывать влияние, и есть намного бОльший круг — всё остальное. И если вас что-то беспокоит, или по какому-либо вопросу у вас есть сильное желание что-то изменить, и этот вопрос находится вне круга вашего влияния, то существует 2 способа.
— Первый способ — это начинать расширять круг вашего влияния, чтобы это дело исправить.
— А второй способ — это просто замолчать, перестать по этому поводу беспокоиться и трепать нервы, «пускать волны» на пустом месте, если вы по этому поводу ничего не собираетесь делать.
Наверное, самое главное — то, что когда вот это понимаешь, от этого становится вначале не по себе, то есть думаешь: «Ой!…», а потом появляется очень сильное чувство свободы. То есть понимаешь: «Вот всё, как мне надо — сам себе капитан«. Это, может, самообман немножко быть, потому что общество, естественно, создаёт определённые рамки, но вот это осознание, что никто и ничего здесь за тебя не будет делать, если ты хочешь, то делай сам.
Артём Войтенков: Это ценно.
Михаил Аносович: Это очень ценно. Если говорить о конкретике.
Парк, приезжаете туда, там висит объявление что-то типа: «Пожалуйста, забирайте мусор с собой, потому что в этом парке выборка мусора не производится для того, чтобы он бесплатным«. И люди забирают. Люди приезжают, люди делают и забирают. Они хотят, чтобы этот парк оставался бесплатным. Существует выбор: ты можешь начать оставлять там мусор. В конечном итоге, скорее всего, туда привезут мусорные урны или же бачки, куда это можно всё выбрасывать, но тогда за въезд будут брать деньги. И таких примеров куча. Вот эта социальная активность населения, она очень высока. И это я связываю с этим «Никто за тебя ничего делать не будет. Если ты чего-то хочешь — вставай и делай«.
Артём Войтенков: И это очень правильно. Это вот то, чего нам не хватает, кстати, очень сильно.
Михаил Аносович: Артём, я вижу изменения: чуть-чуть начинается. За 20 лет поколение, которое росло после развала СССР, оно вот это — правильно или не правильно — начинает впитывать, оно видит, что особой заботы нет. Но всё равно вот этот груз, что государство или кто-то за тебя что-то сделает или само сделается — это всё равно живёт очень крепко. И вот это меня на самом деле удивляет. Я разговаривал — людям часто это не нравится, потому что как бы косвенно ты их обвиняешь, что они ленивые или инертные. Но вот это есть.
Продолжая про индивидуализм. Там очень ценят персональное пространство, уважают. Вы имеете право быть одни даже в людном месте, чтобы вас не трогали, какие-то беседы с вами не заводили.
Потом существует также достаточно глубокое понятие, что моё мнение может отличаться, моё видение того, что и как должно происходить или делаться, оно может отличаться от видения вашего. Это полутолерантность, полуиндивидуализм. Это почти, как из «Собачьего сердца»:
— «Купите журнал»
— «Не хочу».
— «Почему?»
— «Просто не хочу».
— «Вы что, не любите детей?»
— «Нет, люблю. Просто не хочу».
Артём Войтенков: Это с чем связано? Это связано именно с глубоким уважением мнения другого человека, или связано, что «а мне всё равно, о чём он думает«?
Михаил Аносович: Я думаю, это смесь. Если вы приходите на пляж с детьми, они играют у вас, там песочек (когда они у нас были маленькими). Если рядом сидит другая семья и их дети такого же возраста — они будут играть. То есть, чтобы дети играли вместе, считается вежливым подойти и сказать: «А ничего, что мой ребёнок с вашим куличи будет лепить?» Для российского человека маразматично.
Артём Войтенков: Ну, да. Они сами играют.
Михаил Аносович: Сами должны играть и «вообще, не лезь ко мне, иди и там занимайся«. Почему это делается? Во-первых, я не знаю, хотят ли родители этого ребёнка, чтобы он играл один или чтобы он играл с моим. Можно много производных из этого процесса вывести.
Как это видно? Это пример может простой.
Когда мы приезжаем сюда, мы идём в Серебряном бору на пляж. Мы ещё не успели положить полотенце на траву или на лежак, к нашим детям уже прибегает девочка: «Как тебя зовут? Пошли играть». И они убегают. Они прибегают со светящимися глазами и говорят: «Мама, здесь так интересно. Папа, меня позвали (Настя или Коля). И здесь вообще всё такое происходит». Это прекрасно.
Но, чтобы была понятна точка зрения индивидуального пространства и права на него, я приведу пример: что, если вы не хотите, чтобы ваш ребёнок играл в той или иной компании по каким-либо причинам – не важно, по каким. Вам не нравится.
Артём Войтенков: Просто мы туда не идём тогда.
Михаил Аносович: Да. Или же вам пора уходить, например, а ребёнка позвали, и из этого может получиться скандал. То есть я пытаюсь вам показать две… Это, опять: не хорошо или плохо — это просто по-другому.
Второй пример, который очень показателен.
У нас сосед. У меня кусок дороги перед домом, где мои, наверное, семь метров, а его два – и он один кусок этой травы. Когда я кошу, я кошу все 9 метров. Когда он косит, он косит два и так аккуратненько оставляет мои семь. Почему я рассказываю? Мы там жили 11 лет, это происходило в начале.
Я думаю: «Как это можно объяснить?»
Он не хочет идти ко мне домой и спрашивать: «Косить тебе эти семь метров или нет?»
Но он оставляет право: может, ты траву подлиннее хочешь», может, ты со мной хочешь покосить.
Артём Войтенков: А что он будет ваши семь косить, когда у него два.
Михаил Аносович: Ходишь ты с этой косилкой — пройдись: быстро же. В общем, разные мысли появлялись. Это длилось порядка меньше года. Он стал косить и мои семь.
Артём Войтенков: А! Вы его перевоспитали.
Михаил Аносович: Да. Мне доставляет удовольствие.
Например, мы идём, собираем ягоды где-то, скажем, привозим 15 килограмм ягод (едешь на ферму, собираешь). Куда их девать? Варенье особо мы не варим. Поесть, туда-сюда. Мы берём и такими, маленькими ведёрками раздаём соседям. И мне это чисто доставляет удовольствие смотреть на их реакцию, когда к ним приходит человек, которого они знают (мы живём с ними долго):
«Вот вам, пожалуйста, ведро ягод«.
И они не знают, куда деваться: «Зачем? Почему ты мне даёшь?»
— «Мне с вас ничего не надо. Мы ехали собирать, у нас много. Это просто вам. Ешьте«.
Это вызывает такое смятение, но к этому привыкают. Потом они понимают, что живут там, они из России, там это так принято. И потом могут даже тебе что-то принести. Но то, о чём я говорил, что никто никому не должен, и если ты не встанешь и сам ничего не сделаешь, — это, наверное, одна из ключевых вещей.
Артём Войтенков: Кстати, вы первый, кто это подробно объяснил, из чего всё происходит. Многие люди рассказывали, что «они вот такие, за рубежом это делают не так, это делают не так, это плохо». Но вы просто показали, что это что-то другое. У него есть и свои достоинства, есть и свои недостатки. Но всё просто зависит от того положения, через которое на это смотришь.
Михаил Аносович: Абсолютно. Это не хорошо и не плохо. Это просто по-другому.
Теперь про медицину в Австралии. В Австралии существует такая система, она называется Medicare. Это всеобщее медицинское обслуживание для всех, кто имеет право там проживать. Это относится ко всему: походы к врачу, госпиталь и так далее, то есть всё это покрыто. Ну и, естественно, ты за это платишь, как и в любой системе. Это 1,5% от твоих налогов плюс оплата процента, и, как в большинстве стран, эта система время от времени трещит по швам, то есть денег не хватает.
Артём Войтенков: Отчисляют медицинские с каждой зарплаты. А когда вы идёте к врачу (зуб болит, ещё что-то), вы ему платите?
Михаил Аносович: Короткий ответ на это: «Да, платишь». Но это зависит от того, к какому врачу. Зуб — плохой пример, потому что зубы под эту систему не попадают. Зубы — это вообще считается дорого, в зубах ничего бесплатного нет, если только вы не попадаете под малоимущих. То есть если вы малоимущий, то вы можете лечиться, то есть там есть программа, которая обеспечивает.
Артём Войтенков: Нет, ну, мало ли что. Вы пришли, там, ногу подвернули.
Михаил Аносович: Да, то есть любое другое — да, вы, как правило, будете платить. Существует шкала, по которой государство говорит, что определённая процедура должна стоить столько-то, или приём к терапевту должен стоить столько-то. А сам терапевт может решить: работать ли за эту цену либо же он может брать больше.
Артём Войтенков: Там есть разделение на государственную и частную медицину?
Михаил Аносович: Есть. Там есть частные и государственные госпиталя. То есть врач, терапевт, его нет частного или же государственного, они все частные. Доктор — у него свой бизнес, и он принимает людей. Ему надо иметь лицензию от государства. Частным является только, когда госпиталь, то есть здание, палаты, еда в нём, а доктора, они могут работать, как в частном госпитале, так и в государственном здании.
Артём Войтенков: Понятно. То есть они специалисты со свободным заработком.
Михаил Аносович: Да, абсолютно правильно. Как я уже заметил, что система иногда трещит по швам, то есть не хватает, очереди на определённые процедуры. И в последние уже, наверное, лет десять правительство начало очень-очень сильно насаждать (я это называю «добровольно-принудительную») частную страховку.
В принципе, вам страховка в Австралии теоретически не нужна. У вас есть Medicare — вас должны вылечить. И, к счастью, если с вами случится авария, сердечный приступ или что-то очень-очень серьёзное или плохое, это работает на 100%. То есть, если вы действительно попадёте, вы будете лечиться в госпитале, это вам не будет стоить ничего.
Такие вещи, как, не приведи Бог, заболевание раком, колени, суставы, локти, то есть не смертельные вещи — это многомесячные потенциально очереди. Если вы не можете водить машину — ну, извините. Не умираете? Костыль… и пошли. То есть это есть. Поэтому существует система вот этих частных страховок, которая вам должна покрывать расходы, во-первых, в частном госпитале, во-вторых, она должны вам покрывать расходы сверх того, что платит государство. То есть терапевт, например, должен оплачиваться, скажем, 50 долларов (визит к терапевту), а терапевт берёт с вас 70 долларов. Так вот эта разница между пятидесятью и семидесятью покрывается страховкой частной.
Артём Войтенков: Не государственной, а именно из частной?
Михаил Аносович: Да, из частной — частной страховки. Вопрос этот сложный, и я это называю парадоксом, объяснить его новоприехавшим людям практически невозможно. Я не знаю, насколько слушатели поймут то, что я начну сейчас рассказывать после этого, потому что это звучит, как «Алиса в стране чудес». Но Австралия, она категорично не хочет быть в смысле медицины такой, как Америка, и они очень часто заявляют: «Мы отвергаем американскую систему страхования, где, если у тебя есть деньги, ты получаешь лучше лечение». Это категорически отвергается. Даже в госпитале иногда не прямыми словами, но тебе могут дать понять… Если ты говоришь: «Подождите, у меня страховка. Что я здесь сижу?», — вас достаточно жёстко могут поставить на место: «Сидите, как все. Страховка ваша — это очень хорошо, что она у вас есть, но…».
Артём Войтенков: Вы имеете в виду государственная?
Михаил Аносович: Нет, и частная.
Артём Войтенков: А, даже частная?
Михаил Аносович: Да. Если вы сидите в большом госпитале в государственном…
Артём Войтенков: В очереди.
Михаил Аносович: Да. Это никак не помогает. Парадокс. Когда вы приезжаете в госпиталь государственный, а все, как правило, большие госпитали, они государственные. Частные госпитали, они очень специализированные.
Артём Войтенков: У нас обычно говорят «больницы», «поликлиники». Госпиталь — это военная больница, скажем так. Это у нас вот так распределяется.
Михаил Аносович: А, больницы, да. То есть, если в больницу, вы приезжаете, то часто люди скрывают, что у них есть частная страховка.
Артём Войтенков: Это им как-то помешает что ли?
Михаил Аносович: Да, потому что, если вы скажете, что у вас есть частная страховка, вас могут запустить как частного пациента в государственном госпитале.
Артём Войтенков: И государство не будет платить за вас, да?
Михаил Аносович: Оно будет платить до предела, но врач, если видит, что вы — пациент с частной страховкой, вместо, там, 50 долларов, будет брать 150.
Артём Войтенков: Спрашивается: зачем тогда она нужна?
Михаил Аносович: Артём, очень хороший вопрос, и на него однозначного ответа нет. Я могу только сказать одно, что когда наших две дочери родились, мы страховку не покупали не потому, что у нас не были денег, а потому, что мы просто решили, что она нам не нужна в то время была. Последнее время мы её стали покупать, потому что, как я сказал, добровольно-принудительной страховка является, потому что государство тебе добавляет ещё один процент к налогу, если у тебя частной страховки нет.
Артём Войтенков: Да… Как всё деньгами-то управляется.
Михаил Аносович: Да. То есть вам это добавляется. Ты смотришь и думаешь: «Ну, хорошо». Либо ты отдаёшь практически 80% цены частной страховки просто в налоги ещё. Как бы такой кнут, очень серьёзный.
Чтобы было понятно, о чём идёт речь, то есть в простых терминах. Моя дочь несколько лет назад, катаясь на роликах, сломала достаточно сильно руку. Её привозят в госпиталь, там происходит лечение. Ко мне подходит человек и говорит: «Вот вам листочек. Пожалуйста, заполните«.
Листочек говорит примерно следующее: «Пожалуйста, вы вам абсолютно гарантируем, если у вас есть страховка, заполните, дайте нам эту информацию. С вас не возьмут ни цента. Не бойтесь дать нам эту информацию, потому что мы её используем для того, чтобы для госпиталя что-то из этой страховки взять«.
То есть это показывает, что это — системная проблема. Сложно… Были примеры, когда, например, мы делаем одну и ту же процедуру (это из моего прямого опыта) — по-моему, мне делали гастроскопию или ещё что-то, она делается. Потом мы разговариваем с моим другом. Он по какому-то удивительному стечению обстоятельств делал то же самое, но он делал по страховке, он платит больше на 400 долларов из своего кармана, а я не плачу ничего.
Артём Войтенков: Получается, что не страховая компания платит, а ты ещё?
Михаил Аносович: Ну да.
Артём Войтенков: Вообще-то, да, странно.
Михаил Аносович: Ну, сложно, сложно. Там платишь ты, потом ты пытаешься это вернуть из страховой компании. То есть вот такое.
Артём Войтенков: Они говорят: «Не страховой случай». Да?
Михаил Аносович: Они тебе говорят: «По нашему графику вы заплатили столько-то, но всё равно из вашего кармана тоже надо немножко взять«. Это сложно, сложно.
В общем и целом, если брать, — медицина находится на очень приличном уровне, грех жаловаться. Наверное, просто начальный разбор вот этого всего, как это и где работает, — он занимает немножко времени. Когда уже ты это знаешь, ты живёшь достаточно комфортабельно.
Из интересного. Вот это кардинально отличается от того, что мы имеем здесь. Это, кстати, из того, что мы обсудили только что до этого об индивидуализме: вы лечитесь сами там, с помощью доктора.
Артём Войтенков: Я понял уже, да. А у нас здесь лечат врачи тебя, и делают это обычно неправильно.
Михаил Аносович: Да. И потом можно на них жаловаться и говорить: «А вот я пошёл, а он или она, такая-то такая, мне не то залечила«. Здесь это вначале приводит в лёгкий шок, особенно, если это люди в зрелом возрасте, которые уже прожили в системе, где лечат врачи.
Это абсолютно общее явление, когда вы приходите в кабинет к врачу специалисту. Если он специалист по позвоночнику, значит, у него будет стоять модель позвоночника, если специалист по коленям — значит, сустав коленный и так далее. И он вам рассказывает, делает такой мини-ликбез по тому, как всё работает. Он вам говорит: «Если у вас здесь, то это у вас отходит. Здесь эту штучку вот так». И потом обязательно где-то прозвучит (он вам говорит): «Мы можем вам сделать вот это, может вот это. Мы можем сделать и вот это. Я бы не советовал, потому что больше минусов, а вот первые два варианта… Какой из них хотите?»
И выбор действительно ваш.
Существует, естественно, вещи, если вас привозят в госпиталь и вы без сознания, вам делают то, что требуется — понятно. Но вот в таких вещах, как не смертельные какие-то вещи, вам это всё объяснят до мельчайших подробностей, иногда даже до смешного. То есть уже хочется сказать: «Ну, понял. Давайте уже перейдём… Я сюда пришёл не изучать, как работать мой позвоночник, локоть или колено, или палец. Мне просто хочется это вылечить«.
Но вам это очень-очень так объясняют, и врач является вашим партнёром так же, как и юрист, бухгалтер, которого вы можете пользовать, или же любой другой профессионал, к помощи которого вы прибегаете. Вот это кардинальное отличие медицины. То есть это не хорошо и, наверное, не плохо. Это просто по-другому. И когда вы это понимаете, от этого становится немножко легче.
Ты понимаешь: «Хорошо. Так и всё. Дальше будешь думать сам«.
Это приводит к тому, что начинаешь пытаться разобраться в тех болезнях, что с тобой происходит, может быть, через тот же Гугл, чтобы уже разговор шёл какой-то.
Артём Войтенков: В этом есть свои достоинства, кстати, в этой системе.
Михаил Аносович: Абсолютно. Это медицина.
Дальше мы переходим к ещё одной такой, интересной теме: они и мы, мышление. Потенциально немножко даже болезненная тема может быть для слушателей, потому что я буду затрагивать вещи, которые я прошёл на себе. Сейчас мне даже немножечко иногда не по себе, потому что когда я смотрю назад, себя видишь немножко в другом свете.
Во-первых, начнём с того, что Австралия — это чрезвычайно законопослушное общество, то есть до одурения, извините, если можно так выразиться. В подавляющем большинстве случаев — большой плюс. Понятно, что дороги переходятся на зелёный свет.
Артём Войтенков: Даже когда машин нет, всё равно все будут стоять?
Михаил Аносович: Да, как правило. Исключением может являться то, что это очень маленькая дорога и машин ну, действительно нет, то есть их нет, тогда будет переход. Если вы идёте с маленькими детьми, скорее всего, вы всё равно будете стоять. Это относится дальше ко многим вещам. Это общество очень законопослушное.
Например, когда вы видите видеокамеру — камеру, которая снимает, если вы превышаете скорость, то в Австралии не мигают фарами, полицейских никак не обозначают, и меня это забавляло: «Ну как? Ребят, где же солидарность? Водители, ну, почему?»
Очень часто этой темы избегали.
А когда-то я получил такой, очень отрезвляющий ответ на это. Они сказали:
— «А зачем? Ты хочешь предупредить человека, который превышает скорость, о том, что там стоит полицейский, чтобы он не получил штраф»
— «Ну да. А как же? А потом меня предупредят. Нормально?»
— «Нет. Ездить надо по правилам. А тот, кто превышает скорость, должен платить штраф. А если он это будет продолжать делать, то он может сбить человека… и даже эта ниточка может даже привести к твоему ребёнку».
Это меняет кардинально взгляд на ту, казалось бы, абсолютно ясную ситуацию, что «Ну, вот, дураки — не делают. Просто не понимают, как это нужно».
Артём Войтенков: Скорость-то превышают?
Михаил Аносович: Превышают, но не сильно. Когда я рассказал у себя на работе в Австралии, что в России приняли закон о превышении скорости плюс-минус 20 километров, то люди думали, что я оговорился. В Австралии дают 3 километра. Превышают, да, но это очень сильно наказывается и серьёзными штрафами. А в совсем плохих случаях, если вы превышаете, по-моему, больше, чем на 30 километров, у вас просто отберут права сразу, без всяких разговоров, на год.
У меня, кстати, сосед (возвращаясь к нему, который косил траву), он ехал в северной Австралии по абсолютно пустой дороге на очень высокой скорости, и его полицейский вертолёт отследил, и у него были отобраны права. Он потом страдал чуть меньше года.
Следование законам — это кардинальное отличие от российского подхода. В России законы соблюдаются, но…
Артём Войтенков: Но меньше уважаются.
Михаил Аносович: Намного меньше уважаются. И, как сказал, классик (это ещё было до революции) – «строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения». И вот это живёт в нас до сих пор.
Я на это сейчас смотрю так: да, есть законы совершенно маразматичные, которые мешают жить. Но проблема в том, что когда общество в целом считает возможным не соблюдение законов, мелких правил даже, и не соблюдение относится не к грубому нарушению, а, скажем, к интерпретации того или иного закона. «Мусор не бросать». Ну, бутылка — какой это мусор? А, ерунда (или фантик). А кто-то может оставить целый мешок.
В обществе, где «нет» — это значит Нет: ни фантик, ни мешок, ни бутылка не оставляется принципиально, то есть люди слушаются. Вот это сильно видно, и это приводит к тому, что российский особенно турист, он может выглядеть в глазах западного человека, который живёт на Западе, который следует законам, если не хамовато, то невежей. То есть если написано «не купаться», а мы купаемся (по понятным причинам: а что не купаться, жарко ведь), это выглядит шокирующе немножко. Это сильно заметно на самом деле.
Например, даже я сегодня ехал в метро, я обращаю внимание на то, что люди начинают заходить прежде, чем начинают выходить. Почему? Дикость какая-то.
Ещё, например, я опишу, о чём идёт речь. Это было несколько лет назад. Мы летели из какого-то азиатского города в Москву, и на самолёте была группа русских пассажиров и группа китайцев. На самом деле, из моего опыта, русские и китайцы, они очень близки, чрезвычайно близки по восприятию мира: это конкуренция, это отпечаток социалистического прошлого, это необязательность соблюдения законов, это находчивость такая бытовая. Группа российских туристов что-то распивала, какой-то алкоголь, а китайцы играли в карты (это совершенно действительная история, это было порядка 7-8 лет назад).
И тут объявляют: «Пожалуйста, сядьте на месте, пристегните ремни — входим в зону турбулентности«.
Что происходит? 70% самолёта садится, пристёгивает ремни. Китайцы и русские продолжают заниматься тем же, чем и занимались. Стюардессы начинают бегать их упрашивать, а те им начинают говорить, что турбулентность — это нормально, нам она не страшна. Происходит такой мини-хаос, западные стюардессы начинают очень от этого нервничать, не зная, что делать. А российские с этим достаточно легко разбираются либо путём окрика, либо угрозы.
Когда летишь из Австралии, там обычно два колена. Первое колено — это из Австралии в какую-либо Азию, либо Эмираты прилетаешь, а дальше самолёт заполняется больше людьми, которые летят в Москву, это естественно, потому что рейс в Москву. И вот эта разница вообще в пассажирах и в поведении достаточно сильно видна. Опять, Артём, я для слушателей тоже хочу сказать: если мои слова звучат как осуждение — это неправильное восприятие. Я просто описываю разницу.
Вторая вещь, которая про «они и мы», которая тоже является достаточно фундаментальной, это вера русского человек или же иммигранта… Да даже не иммигранта, а вера русского человека в свою супернаходчивость или смекалку. Я не знаю, было это порождено сатириками в конце 80-ых или в начале 90-ых, потому что я помню, что, по-моему, это Задорнов, Жванецкий рассказывали.
Артём Войтенков: Задорнов до сих пор на этом коне едет.
Михаил Аносович: Не может быть. До сих пор ездит?
Артём Войтенков: До сих пор, да. «Какие они тупые, как мы умные. Давайте выпьем по этому поводу».
Михаил Аносович: То, что он едет на этом коне, я не знаю, делает он это специально или….
Артём Войтенков: Это же деньги ему приносит, поклонников, людей.
Михаил Аносович: Следует отдать ему должное: это является реальностью, действительно такое есть. Они тупые, а мы знаем, как это по-другому как-то. Как правило, это может быть связано либо с обходом какого-то закона: «Они на зелёный свет, а машин нет — вот тупые (а мы переходим)». То есть много-много вещей.
Я не помню, Задорнов или Жванецкий сказал (классическая шутка), что американцы потратили огромное количество денег, изобретая ручку, которая пишет в космосе, а русские писали карандашом. Вы знаете, что это миф. На самом деле ручка, которая пишет в космосе, была придумана американцами, Фишером. Пол Фишер её придумал в 56-ом году. Её русские используют в космосе, а писать карандашом в космосе не полезно, потому что кусочки графита начинают летать, и это может быть вредно. Я верил в этот миф, и меня он очень всегда растормашивал, мне это очень нравилось. Когда я узнал об этом, прочитал немножко, покопал, мне стало как-то жутко обидно. Думаю: «Ну, как же так. И вот это уже отобрали, и с космосом связанное». Так просто и элегантно всё это было.
Артём Войтенков: Почему? По космосу мы ещё впереди пока.
Михаил Аносович: Естественно. Вещей на самом деле много. И сказав о том, что они тупее, мы умнее — в этом есть доля правды. Но, к сожалению, когда мы используем это очень широко, оно приводит к негативным последствиям. Потому что некоторые вещи просто люди не понимают, нарушая какие-то мелкие законы, какие-то правила, говорят, что это умнее, ловя рыбок в бассейне в гостинице, потому что это просто весело. Это приводит не к правильному имиджу россиянина.
В некоторых вещах мы действительно намного более смекалистее. Например, программирование. Русские программисты ценятся — нестандартное решение. Если бы это относилось только к хорошим вещам, правильным, это было бы очень здорово.
Артём Войтенков: Было бы хорошо.
Михаил Аносович: Было бы хорошо, это выявляло бы нас в хорошем, правильном свете. Но, к сожалению, сейчас это в лучшем случае это 50 на 50, а то, может быть, и меньше. Опять же, вспоминаю, как в магазинах бирки приклеивали, чтобы не выносили. Они говорят: «Ха-ха, русские мигранты эту бирочку отрезают и эту вещь выносят» — это ужасно. Это на самом деле это правда. Это так есть. После этого стали бирочки зашивать.
Кто тупее, кто умнее — это серьёзное различие. Прожив долго достаточно на Западе, ты начинаешь понимать, что, во-первых, не всё так однозначно, и второе — это то, что иногда, к сожалению, мы выглядим не в лучшем свете.
Артём Войтенков: А ещё вот интересно. Вы сказали «прожив много лет на Западе». Австралия от нас, в общем-то, юг и больше восток.
Михаил Аносович: Ну да, юго-восток.
Артём Войтенков: А «запад» — это с точки зрения цивилизации Запад?
Михаил Аносович: Да, с точки зрения цивилизации.
Потом ещё из интересного. Например, про соблюдение законов или их несоблюдение. Я очень коротко расскажу такие, смешные истории с приёмом на работу. Прожив там несколько лет уже, совершенно естественно, ты помогаешь людям, которые приехали недавно, пытаешься дать какой-то совет.
В Австралии, как правило, если ты подаёшь не на очень высокие позиции, то сначала ты разговариваешь с человеком, который находится в агентстве, который, как правило, профессионально ничего не знает о той области. Он просто пытается посмотреть на тебя, вообще, кто ты. Если ты эту стадию прошёл, то он тебя отправляет дальше в организацию, где хотят найти ту или иную позицию. Так вот там один из классических вопросов на интервью: «Скажите, какие у вас недостатки?» На этот вопрос существует такой же классический ответ: «Я слишком тяжело работаю», или «У меня большие требования к себе». Это написано в книжках, это не секрет. Мы говорим о начале 90-х, тогда Интернета особо сильно не было. Можно было пойти в библиотеку, открыть книжку — там было всё написано.
Люди приезжают, ты начинаешь говорить: «Слушай, вот один из таких, немножко каверзных вопросов, которые в России в то время и подавно не спрашивали, это когда тебя спросят о недостатках, ты придержи язык, не надо рассказывать, что и как. А ты скажи вот так». И у меня было несколько случаев, когда на меня смотрели и говорили: «Ну, Михаил, это же так просто. Это же вот написано в книжке. Нет, мы не можем, это же дураку понятно, что вы это прочитали и отвечаете. Нет, это не подходит. Мы же блоху подковать можем вообще».
Идут. Что-то говорят. Работу, естественно, не получают. Почему? Начинаешь объяснять:
— Вот, представь, 10 человек приходят к девочке или дяде на интервью. Она ничего не понимает, она задаёт вопросы по анкете, делает либо «крест» либо «галочку», какие там замечания. Вот пришли девять, рассказали, когда спрашивают, какие у вас недостатки, отвечают либо «тяжело работаю», либо «слишком требователен», либо какая-то другая чушь, которая стандартна, чтобы избежать честного ответа — не честного, а откровенного, скажем так. И вдруг один из десяти начинает тебе выкладывать что-то такое…. Естественно, это, наверное, очень интересно человеку, человек просыпается, но потом он делает анализ и думает: «Нет, Боже мой, что-то здесь не то, что-то неправильно». То есть это произошло не по меркам, не по трафарету, не по правилу, по которому играется игра. Ну и что после этого?
Мы переходим. Здесь две остались темы: бюрократия и жизнь в кредит.
Бюрократия есть, она такая, в общем, там здоровая, укоренённая и во многих случаях помогающая процессу. То есть это не обязательно ругательное слово — «бюрократия». Очень важно понимать, что это система, что бороться с системой это то же самое, что и бороться с ветряными мельницами. То есть, если вы верите, что что-то неправильно и вы пытаетесь доказать, что система подточена не так, — результат на 99,9% гарантирован, что вы ничего не добьётесь, потому что просто такого не бывает, чтобы система, выстроенная за годы, могла где-то давать сбой и что-то там не так делать.
Второе — это то, что существует очень много процессов, где надо либо поставить «галочку», либо «крестик». Не важно на самом деле, какая является реальность, если у вас количество «галочек» превышает количество «крестиков», то у вас будет всё хорошо, вы переходите дальше, что бы это ни было. То есть вы знаете, как играть в эту игру, вы можете достигать.
Когда у нас родилась первая дочь, мы пригласили нашу маму к себе. В заявлении на визу мы честно написали (к тому моменту у меня была такая эйфория, наверное, ещё по поводу, как это всё хорошо, что всё такое розовое, розовые очки такие были) в анкету, что мы приглашаем маму по уходу за её внучкой, мы хотим, чтобы она нам помогла ухаживать за её внучкой, а жена пойдёт на работу — работать и платить налоги.
Артём Войтенков: С точки зрения русского совершенно, в общем-то, буднично.
Михаил Аносович: Будничная вещь и «пуленепробиваемая». Что происходит после этого? Мама подаёт, ей отказывают. Мы читаем, почему отказали. Оказывается, ей отказывают по статье, что, так как она едет сюда работать в Австралию, то въезд запрещён.
Артём Войтенков: Виза не рабочая, да?
Михаил Аносович: Да. Виза туристическая, а она едет работать. Это происходит так: человек, который это делал, он делает «крестики», «галочки». И по сумме получается, что, да, мама едет сидеть с ребёнком. Не важно, что это её внучка — значит, она отбирает рабочее место у австралийца потенциальное.
После первичного шока, который нас всех взял. Все планы разлетались, что делать? Звонили на телевидение, разговаривали, всё пытался я эту изменить систему в то время. Понятно, что ничего не меняется. Потом что делается? Мы даём объявление в газету, что мы нанимаем няню, мы заключаем контракт с нашей знакомой, несколько страниц с её обязанностями и так далее. Отсылаем этот контракт маме. Мама идёт в австралийское посольство, говорит: «Спасибо. Вы меня освободили от рабства в Австралии«.
Артём Войтенков: Семейное рабство.
Михаил Аносович: Семейное рабство. Я теперь еду честно по туристической визе отдыхать, вот контракт — за ребёнком будет смотреть няня». Она получает визу, прекрасно приезжает. Пример, в общем-то, близок к маразматичному, наверное, если серьёзно говорить. Но абсолютно показателен, как работает бюрократия или же в этом случае, как она не работает. То есть как есть, так есть. Правила надо знать, правила игры надо соблюдать. Если вы хотите их нарушать — как правило, результат будет в подавляющем большинстве случаев негативный.
Михаил Аносович: И последнее, наверное, это жизнь в кредит и как с этим бороться или как с этим…
Артём Войтенков: Существовать.
Михаил Аносович: Да, как с этим существовать.
На самом деле общество австралийское сильно потребительское, как и, наверное, любые другие западные цивилизации, которые сейчас существуют. И это сильно насаждается. Дефицит существует денег. То есть дефицита товаров, естественно, никакого нет — это переизбыток. Существует дефицит денег и существует культ насаждения потребления: нужно тебе или не нужно, но вот надо, чтобы было. И это есть, и это является во многих случаях проблемой, потому что на самом деле происходит гонка за чем-то таким, что реально, может быть, тебе и не нужно.
Не знаю, произошло это сейчас или же это просто чисто мой средний возраст уже начинает показывать немножко сварливость, но у меня такое ощущение, что сейчас более молодое поколение требует «сейчас и всё«. То есть мы не хотим ни копить, ни ждать, а требует «сейчас и всё». К чему это приводит? К тому, что, соответственно, жизнь в кредит, притом подавляюще — жизнь в кредит практически во всём.
Хорошо это или плохо? Зависит от того, на что вы берёте деньги. Мы живём тоже в кредит. Я считаю, что мы живём в кредит достаточно умно. То есть, если это поставить коротко в порядок, то финансовая безграмотность или невежество в австралийском обществе достаточно высокое. По каким причинам финансовым дисциплинам таким, бытовым их не учат в школе. То есть про то, как работает кредитная карточка – про это не говорят. Почему? Наверное, потому что «а зачем?»
Артём Войтенков: Будут знать.
Михаил Аносович: Будут знать — не будут брать. Абсолютно правильно. Если кредиты берутся на потребительские вещи, то есть телевизоры, отпуска, путешествия, машины и так далее — вещи, которые связаны с комфортом:
— во-первых, ничего хорошего нет,
— а во-вторых, это, как правило, приводит к тому, что человек попадаёт в финансовое рабство. То есть он начинает бежать, как хомячок в колесе, денег постоянно не хватает, потому что проценты набегают, эйфория по новому телевизору уже испарилась через месяц, а платить надо ещё следующие 24 месяца.
Артём Войтенков: А там ещё реклама нового телевизора…
Михаил Аносович: А там ещё новые будут уже и так далее. Засасывание вот в это финансовое такое рабство, оно там существует.
Артём Войтенков: А большие проценты по потребительскому кредиту?
Михаил Аносович: Большие. На кредитных карточках там они 15-20-25%, то есть сумасшедшие.
Артём Войтенков: Не маленькие. В принципе, у нас такие же кредиты, даже больше. Но у нас никогда меньше и не было.
Михаил Аносович: Но здесь инфляцию надо ещё учитывать. В Австралии же инфляция очень маленькая, то есть там порядка 3-2,5%.
Для слушателей, для зрителей: если вы не осознаёте, что, беря потребительский кредит, вы залезаете в рабство, то я очень-очень советовал бы прочитать просто про то, как всё это работает, посчитать, насколько вы будете выплачивать больше денег и так далее. Потому что это на самом деле очень-очень грустно, и это разламывает жизнь многим даже по определённым целям, по определённым параметрам.
Что значит «хороший кредит»? Хороший кредит — это когда вы берёте на покупку активов. То есть, если вы можете найти актив, который вам будет приносить больше, чем вы платите по кредиту, то у вас всё будет хорошо. Примером этому может являться недвижимость, ценные бумаги, любой бизнес, который приносит какую-то прибыль — вот эти три вещи и больше на самом деле ничего нет. То есть это бизнес, недвижимость и ценные бумаги (биржа).
Артём Войтенков: Да, но не все же такие предприниматели. Я так понимаю, что большинство людей всё-таки едет туда (если мы берём Россию) за какой-то хорошей жизнью, а не то, чтобы как-то там вкладываться, начинать развивать своё дело. Чтобы получать нормальную зарплату, нормальные деньги и нормально существовать.
Михаил Аносович: Артём, я на это отвечу очень просто (мы уже об этом говорили): никто никому ничего не должен, каждый живёт, как считает нужным. Очень простая вещь.
Приобрести хороший актив без кредита практически невозможно, потому что это, естественно, стоит дорого, каков бы он ни был. Обычно система, когда это работает: вы приобретаете актив, потом актив вам начинает приносить деньги и на деньги, принесённые активом, а не с зарплаты (иногда, может быть, чуть-чуть и с зарплаты, но лучше чтобы это приносилось активом) вы покупаете те потребительские вещи, которые вам хочется. Подавляющее большинство, к сожалению, делает абсолютно всё наоборот: они берут кредит, покупают вещи, которые хочется, пытаются выглядеть состоятельными или богатыми — как угодно, и это приводит к краху.
Артём Войтенков: Мы говорим о русских эмигрантах или мы говорим вообще об австралийцах?
Михаил Аносович: Мы говорим абсолютно обо всех. То есть я это вижу и в России, и русские эмигранты, и австралийцы, и любые другие мигранты, которые там есть. Показательность в австралийском обществе серьёзно меньше, чем в российском.
Артём Войтенков: То есть там не надо ездить на золотом Мерседесе с Rolex’ом.
Михаил Аносович: До определённого уровня, наверное, это что-то важно, но после… То есть, если вы на золотом Мерседесе с Rolex’ом, то это больше будет вызывать, наверное, удивление: «Ой, это кто там? Что это? Почему это?»
Артём Войтенков: Артист, наверное, какой-то.
Михаил Аносович: Да, наверное, кто-то там…
Артём Войтенков: Балаган едет.
Михаил Аносович: Да. То есть с кредитами жизнь, она абсолютно возможна, в этом ничего такого страшного нет. Но здесь единственное — то, что надо абсолютно чётко себе осознавать, что если вам дают деньги, то на вас зарабатывают. Если на вас зарабатывают, то, значит, соответственно, если вы из этого не извлекаете более высокий процент — вот то, что вы должны отдать обратно, то реально вы катитесь под горку вниз. То есть вам деньги надо дальше где-то доставать.
Артём Войтенков: К сожалению, большинство людей этого не осознаёт. Я смотрю просто, как у нас это всё происходит, кредиты всё больше и больше берутся. Причём берутся же кредиты не просто на бытовую какую-то технику, а берутся кредиты на квартиру многолетние, а потом людей просто выкидывают. И такая статистика, очень не маленькая получается.
Михаил Аносович: Это на самом деле грустно. На квартиру, понимаете, это можно сказать, что это, может, и хороший кредит, потому что жильё является активом. Оно может не приносить вам деньги, но оно растёт в цене.
Артём Войтенков: Ну а в Австралии как? Многие берут же кредиты на жильё?
Михаил Аносович: Конечно. Большинство. Большинство людей берут кредиты.
Артём Войтенков: А существует ли такое, что потом они не могут выплатить?
Михаил Аносович: Существует.
Артём Войтенков: Какой процент. Вы не можете сказать, но…
Михаил Аносович: Нет, я могу сказать. Я это знаю (статистику). Процент невыплат минимален, он там порядка одного.
Артём Войтенков: Это немного.
Михаил Аносович: Да, может, двух. Да, небольшой. Но там существует достаточно жёсткая система проверки вашей кредитоспособности. То есть там это действительно минимально, но банк — система, слава Богу, там крепкая. Там Центральный банк работает нормально, кстати, принадлежит Commonwealth — государству, этому сообществу, то есть он не частный там.
Артём Войтенков: Но это же страна англосаксов, Королевская, так что….
Михаил Аносович: Ну, да.
Артём Войтенков: Так что там можно.
Михаил Аносович: Ну, бывает, да, что люди… Тогда к чему это ведёт? Что банк просто забирает, вам придётся продавать дом. Если дом покрыл ваш долг — хорошо, вам повезло, а если дом не покрыл ваш долг, то ваш остаток долга перевесят на собирателя долгов, и он всё равно за вами будет ходить, требовать его. Эта система жёсткая. Там всё, что связано с финансами, это жёстко.
Артём Войтенков: Хорошо. Я благодарю за очень такую, познавательную беседу. Что мне нравится, что вы не перевешиваете: «хорошо», «плохо». Вы рассказываете: вот это так, но вот просто к этому можно по-разному относиться.
Михаил Аносович: Ну да. Так оно и есть. Эта многогранность взглядов, она и есть на самом деле, когда вы видите в одной или двух плоскостях. Как жизнь показывает, если особенно мы говорим между национальностями или религия когда начинают перемешиваться, то, как правило, это не работает, как правило, это приводит к конфликтам. То есть надо расширять поле зрения, понимать другую сторону. И в этом смысле в Австралии дела обстоят, кстати, весьма неплохо. Хотя глупо скрывать, что там есть и конфликты на почве религиозной, то есть связанные с исламом и непринятием его в определённых вещах. Но, в общем и целом, конечно. Рад, что вам понравилось.
Артём Войтенков: Хорошо. Благодарю.
Михаил Аносович: Пожалуйста.
Набор текста: Наталья Малыгина, Наталья Альшаева
Редакция: Наталья Ризаева
http://poznavatelnoe.tv — образовательное интернет-телевидение










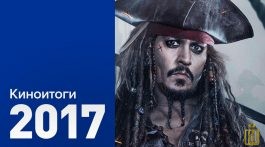



Нет Комментариев